На главную |
Произведения А.С. Шишкова |
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ
Сочинение сие не иное что есть, как род веденной мною записки всему тому, что мне при чтении разных старинных и новых книг, касательно до языка и слога, заметить случилось. Время и обстоятельства не позволили мне все сии в разные времена сделанные мною примечания сообразить и привест в последственный и непрерывный порядок. И так я оставляю оное в том неустроенном виде и составе, какой оно, прирастая день ото дня, само собою получило. Может быть, невзирая на сей недостаток его, не бесполезно будет оно для тех, кои любят язык свой; те ж, которые не любят его, могут бросить оное куда хотят: я не для них пишу.
...Вожделенная народа славенского Матерь, весеселящаяся быти таковою! Како любиши древности славенские, деяния, повествования? Все, все принадлежащее славянам? В сих упражняешися, любомудрствуеши и простираеши неведомый луч светлости будущим писателям нашим.
Коль сладостно нам сие, что тако чествуеши язык славенский! Коликий Твой подвиг сей, почерпнути оный из источников истинных и единых, но источников отдаленных и мало посещаемых?
(Суворов в похвальном слове Екатерине Второй).
Всяк, кто любит российскую словесность и хотя несколько упражнялся в оной, не будучи заражен неисцелимою и лишающею всякого рассудка страстию к французскому языку, тот, развернув большую часть нынешних наших книг, с сожалением увидит, какой странный и чуждый понятию и слуху нашему слог господствует в оных. Древний славенский язык, повелитель многих народов, есть корень и начало российского языка, который сам собою всегда изобилен был и богат, но еще более процвел и обогатился красотами, заимствованными от сродного ему эллинского языка, на коем витийствовали гремящие Гомеры, Пиндары, Демосфены, а потом Златоусты, Дамаскины и многие другие хритианские проповедники. Кто бы подумал, что мы, оставя сие многими веками утвержденное основание языка своего, начали вновь созидать оный на скудном основании французского языка? Кому приходило в голову с плодоносной земли благоустроенный дом свой переносить на бесплодную болотистую землю? Ломоносов, рассуждая о пользе книг церковных, говорит: «Таким старательным и осторожным употреблением сродного нам коренного славенского языка купно с российским отвратятся дикие и странные слова нелепости, входящие к нам из чужих языков, заимствующих себе красоту от греческого, и то еще чрез латинский. Оные неприличности ныне небрежением чтения книг церковных вкрадываются к нам нечувствительно, искажают собственную красоту нашего языка, подвергают его всегдашней перемене и к упадку преклоняют». Когда Ломоносов писал сие, тогда зараза оная не была еще в такой силе, и потому мог он сказать: вкрадываются к нам нечувствительно: но ныне уже должно говорить: вломились к нам насильственно и наводняют язык наш, как потоп землю. Мы в продолжение сего сочинения ясно сие увидим. Недавно случилось мне прочитать следующее: «Разделяя слог наш на эпохи, первую должно начать с Кантемира, вторую с Ломоносова, третию с переводов славяно-русских господина Елагина и его многочисленных подражателей, а четвертую с нашего времени, в которое образуется приятность слога, называемая французами elegance». Я долго размышлял, вподлинну ли сочинитель сих строк говорит сие от чистого сердца или издевается и шутит: как? нелепицу нынешнего слога называет он приятностию! совершенное безобразие и порчу оного образованием! Он именует прежние переводы славяно-русскими: что разумеет он под сим словом? Неужели презрение к источнику красноречия нашего славенскому языку? Не дивно: ненавидеть свое и любить чужое почитается ныне достоинством. Но как же назовет он нынешние переводы, и даже самые сочинения? без сомнения, французско-русскими: и сии-то переводы предпочитает он славено-российским? Правда, ежели французское слово elegance перевесть по-русски чепуха, то можно сказать, что мы действительно и в краткое время слог свой довели до того, что погрузили в него всю полную силу и знаменование слова!*
Отколе пришла нам такая нелепая мысль, что должно коренной, древний, богатый язык свой бросить и основать новый на правилах чуждого, несвойственного нам и бедного языка французского? Поищем источников сего крайнего ослепления и грубого заблуждения нашего.
______________________
* Хотя неможно сего сказать вообще, поелику и ныне есть писатели, достойно сочинениями своими славящиеся; но их так мало в сравнении с другими, что умы младых читателей гораздо меньше наставляются их писаниями, нежели заражаются и портятся творениями сих последних.
______________________
Начало оного происходит от образа воспитания: ибо какое знание можем мы иметь в природном языке своем, когда дети знатнейших бояр и дворян наших от самых юных ногтей своих находятся на руках у французов, прилепляются к их нравам, научаются презирать свои обычаи, нечувствительно получают весь образ мыслей их и понятий, говорят языком их свободнее, нежели своим, и даже до того заражаются к ним пристрастием, что не токмо в языке своем никогда не упражняются, не токмо не стыдятся не знать оного, но еще многие из них сим постыднейшим из всех невежеством, как бы некоторым украшающим их достоинством, хвастают и величаются?
Будучи таким образом воспитываемы, едва силою необходимой наслышки научаются они объясняться тем всенародным языком, который в общих разговорах употребителен; но каким образом могут они почерпнуть искусство и сведение в книжном или ученом языке, толь далеко отстоящем от сего простого мыслей своих сообщения? Для познания богатства, изобилия, силы и красоты языка своего нужно читать изданные на оном книги, а наипаче превосходными писателями сочиненные: из них научаемся мы знаменованию и производству всех частей речи; пристойному употреблению оных в высоком, среднем и низком слоге; различию сих слогов; правильному писанию; красноречивому смешению славенского великого слога с простым российским, свойственным языку нашему изгибам и оборотам речей; складному или не складному расположению их; краткости выражений; ясности и важности смысла; плавности, быстроте и силе словотечения. Между тем как разум наш обогащается сими познаниями, слух наш привыкает к чистому выговору слов, к приятному произношению оных, к чувствованию согласного или не согласного слияния букв, и одним словом, ко всем сладкоречия прелестям. Отсюду природное дарование наше укрепляется искусством; отсюду рождается в нас любовь к писаниям и разумение судить об оных. Кратко сказать, чтение книг на природном языке есть единственный путь, ведущий нас во храм словесности. Но коль сей путь, толико трудный и требующий великого внимания и долговременного упражнения, должен быть еще несказанно труднейшим для тех, которые от самого младенчества до совершенного юношества никогда по нем не ходили? Когда может быть из превеликого множества нынешних худым складом писанных книг, для вящего в языке своем развращения, прочитали они пять или шесть, а в церковные и старинные славенские и славено-российские книги, отколь почерпается истинное знание языка и красота слога, вовсе не заглядывали? они читают французские романы, комедии, сказки и проч. Я уже не говорю, что молодому человеку, наподобие управляющего кораблем кормщика, надлежит с великою осторожностию вдаваться в чтение французских книг, дабы чистоту нравов своих в сем преисполненном опасностию море не преткнуть о камень; но скажу токмо рассуждая о словесности: какую пользу принесет им чтение иностранных книг, когда не читают своих? Волтеры, Жан-Жаки, Корнелии, Расины, Молиеры не научат нас писать по-русски. Выуча всех их наизусть и не прочитав ни одной своей книги, мы в красноречии на русском языке должны будем уступить сочинителю Бовы Королевича. Весьма хорошо следовать по стопам великих писателей, но надлежит силу и дух их выражать своим языком, а не гоняться за их словами, кои у нас совсем не имеют той силы. Без знания языка своего мы будем точно таким образом подражать им, как человеку подражают попугаи, или иначе сказать, мы будем подобны такому павлину, который, не зная или пренебрегая красоту своих перьев, желает для украшения своего заимствовать оные от птиц несравненно меньше его прекрасных и столько ослеплен сим желанием, что в прельщающий око разноцветный хвост свой готов натыкать перья из хвостов галок и ворон. От сего, можно сказать, безумного прилепления нашего к французскому языку мы, думая просвещаться, час от часу впадаем в большее невежество и, забывая природный язык свой или, по крайней мере отвыкая от оного, приучаем понятие свое к их выражениям и слогу. Мы беспрестанно твердим о множестве разного рода книг и превосходных сочинений, изданных французами, и жалуемся, что мало имеем их на своем языке; но те ли способы употребляем, чтоб до них достигнуть или их превзойти? Сумароков ропщущему на сие говорит:
Перенимай у тех, хоть много их, хоть мало,
Которых тщание искусству ревновало,
И показало им, коль мысль сия дика,
Что не имеем мы богатства языка.
Сердись, что мало книг у нас, и делай пени;
Когда книг русских нет, за кем идти в степени?
Однако больше ты сердися на себя
Иль па отца, что он не выучил тебя;
А если б юность ты не прожил своевольно,
Ты б мог в писании искусен быть довольно.
Трудолюбивая пчела себе берет
Отвсюду то, что ей потребно в сладкий мед,
И, посещающа благоуханну розу,
Берет в свои соты частицы и с навозу.
Имеем сверх того духовных много книг:
Кто виней в том, что ты псалтири не постиг?
В самом деле, кто виноват в том, что мы во множестве сочиненных и переведенных нами книг имеем весьма немногое число хороших и подражания достойных? Привязанность наша к французскому языку и отвращение от чтения книг церковных. Сумароков продолжает:
Не мни, что наш язык не тот, что в книгах чтем,
Которы мы с тобой не русскими зовем;
Он тот же, а когда б он был иной, как мыслишь,
Лишь только от того, что ты его не смыслишь,
Так что ж осталось бы при русском языке?
От правды мысль твоя гораздо в далеке.
Французы прилежанием и трудолюбием своим умели бедный язык свой обработать, вычистить, обогатить и писаниями своими прославиться на оном, а мы богатый язык свой, не рача и не помышляя о нем, начинаем превращать в скудный. Надлежало бы взять их за образец в том, чтоб подобно им трудиться в созидании собственного своего красноречия и словесности, а не в том, чтоб найденные ими в их языке, нимало нам не сродные красоты перетаскивать в свой язык. Тот же Сумароков весьма справедливо рассуждает о сем:
Имеет в слоге всяк различие народ:
Что очень хорошо на языке французском,
То может в точности быть скаредно на русском.
Не мни, переводя, что склад в творце готов;
Творец дарует мысль, но не дарует слов.
В спряжение его речей ты не вдавайся
И свойственно себе словами украшайся.
На что степень в степень последовать ему?
Ступай лишь тем путем и область дай уму:
Ты сим, как твой творец письмом своим не славен,
Достигнешь до него и будешь сам с ним равен.
Хотя перед тобой в три пуда Лексикон,
Не мни, чтоб помощь дал тебе велику он:
Коль речи и слова поставишь без порядка,
Так будет перевод твой некая загадка,
Которую никто не отгадает ввек;
То даром, что слова ты точно все нарек.
Когда переводить захочешь беспорочно,
Не то, творцов мне дух яви и силу точно.
Язык наш сладок, чист и пышен и богат,
Но скупо вносим мы в него хороший склад.
Рабственное подражание наше французам подобно тому, как бы кто увидя соседа своего, живущего на песчаном месте и трудами своими превратившего песок сей в плодоносную землю, вместо обработывания с таким же прилежанием тучного чернозема своего, вздумал удобрять его перевозом на оный бесплодного с соседней земли песку. Мы точно таким образом поступаем с языком нашим: вместо чтения своих книг читаем французские; вместо изображения мыслей своих по принятым издревле правилам и понятиям, многие веки возраставшим и укоренившимся в умах наших, изображаем их по правилам и понятиям чуждого народа; вместо обогащения языка своего новыми почерпнутыми из источников оного красотами растлеваем его несвойственными ему чужестранными речами и выражениями; вместо приучения слуха и разума своего к чистому российскому слогу отвыкаем от оного, начинаем его ненавидеть и любить некое невразумительное сборище слов, нелепым образом сплетаемых. Сверх сей ненависти к природному языку своему и любви к французскому есть еще другая причина, побуждающая новомодных писателей наших точно таким же образом и в словесности подражать им, как в нарядах. Я уже сказал, что трудно достигнуть до такого в языке своем познания, какое имел, например, Ломоносов: надлежит с таким же вниманием и такую же груду русских и еще церковных книг прочитать, какую он прочитал, дабы уметь высокий славенский слог с просторечивым российским так искусно смешивать, чтоб высокопарность одного из них приятно обнималась с простотою другого. Надлежит долговременным искусом и трудом такое же приобресть знание и силу в языке, какие он имел, дабы уметь в высоком слоге помещать низкие мысли и слова, таковые, например, как: рыкать, рыгать, тащить за волосы, подгнет, удалая голова и тому подобные, не унижая ими слог и сохраняя всю важность оного*.
______________________
* Смотри стихи его в поэме «Петр Великий», где сказано, говоря о стрельцах, низвергших боярина Афонасья Нарышкина со стены на копья:
Текущу видя кровь, рыкают: любо! любо!
Пронзенного подняв, гласят сие сугубо.
Говоря о пальбе из пушек:
Гортани медные рыгают жар свирепый.
Говоря о стрельцах, устремляющихся на убиение боярина Ивана Нарышкина, исторгая его из рук сестры оного царицы Наталии Кирилловны:
Презрев Царицыных и власть и святость рук,
Бесчестно за власы влекут на горесть мук.
[...]
______________________
Надлежит иметь воображение, изощренное чтением, и память, обогащенную знанием слов, дабы уметь составлять подобные сим стихи:
Мне всякая волна быть кажется гора,
Что с ревом падает обрушась на ПЕТРА.
Какое, подобное падению и шуму волны, падение и шум в стихе! Что может быть величественнее сего описания:
Достигло дневное до полночи светило,
Но в глубине лица горящего не скрыло,
Как пламенна гора казалось меж валов,
И простирало блеск багровый из-за льдов.
Среди пречудныя при ясном солнце ночи
Верхи златых зыбей пловцам сверкают в очи.
Какое сладкогласие и чистота слога в двух последних стихах! Верьте после сего несомненной истине писателей наших, что ныне токмо образуется приятность слога, называемая французами elegance! Везде глубокое знание языка показуется в цветах, рождающихся под живописною кистью сего великого Стихотворца. Здесь единым почерком изображает он действие бури:
Меж морем рушился и воздухом предел;
Дождю навстречу дождь с кипящих волн летел.
Или:
Внимай, как юг пучину давит,
С песком мутит, зыбь на зыбь ставит,
Касается морскому дну,
На сушу гонит глубину.
Там силе и скорости дав образ исполина представляет их в ужаснейшем виде:
Бежит в свой путь с весельем многим
По холмам грозный исполин,
Ступает по вершинам строгим*,
Презрев глубоко дно долин,
Вьет воздух вихрем за собою;
Под сильною его пятою
Кремнистые бугры трещат,
И следом дерева лежат,
Что множество веков стояли
И бурей ярость презирали.
______________________
* Приметим, что Ломоносов не поставил бы здесь строгим, еслиб слово строгость не происходило от одного корня с словом острота, чему свидетельствуют слова острог, острогать. Подобному знанию и употреблению слов не научимся мы никогда из книг французских.
______________________
Или:
Светящимися чешуями
Покрыт, как медными щитами;
Копье и щит и молот твой
Считает за тростник гнилой.
Там замысловатым словом или остроумною мыслью в восторг приводит ум:
Твое прехвально имя пишет
Не ложна слава в вечном льде,
Всегда где хладный север дышет,
И только верой тепл к тебе.
Или:
В шумящих берегах Балтийских
Веселья больше, нежель вод,
Что видели судов Российских
Против врагов счастливый ход.
Инде пламенным изображением всеснедающего времени и лютой войны ужасает воображение:
Уже горят Царей там древние жилища;
Венцы врагам корысть, и плоть их вранам пища!
И кости предков их из золотых гробов
Чрез стены падают к смердящим трупам в ров!
Инде пером, искуснейшим чем Ахллесова кисть, представляет нам гоняющуюся за зверьми Российскую Дияну:
Ей ветры в след не успевают;
Коню бежать не воспящают
Ни рвы, ни частых ветьвей связь:
Крутит главой, звучит броздами,
И топчет бурными ногами,
Прекрасной всадницей гордясь!
Инде простыми, но выше всякого искусства, стихами приводит душу и сердце в умиление:
В пути, которым пролетаешь,
Как быстрый в высоте орел,
Куда свой зрак ни обращаешь,
По множеству градов и сел;
От всех к тебе простерты взоры,
Тобой всех полны разговоры,
К тебе всех мысль, к тебе всех труд;
Дитя родивших вопрошает:
Не тая ли на нас взирает,
Что материю все зовут?
Иной от старости нагбенный
Простерть старается хребет,
Главу и очи утомленны
Возводит, где твой блещет свет.
Там видя возраст бессловесный,
Монархиня, твой зрак небесный,
Любезну оставляет грудь;
Чего язык не изъясняет,
Усмешкой то изображает,
Последуя очами в путь,
Инде колико сей нежности противен когда изображает противные сему вещи как например злобу:
Как тигр уж на копье хотя ослабевает,
Однако посмотреть на раненой хребет,
Глазами на ловца кровавыми сверкает,
И ратовище злясь в себе зубами рвет:
Так меч в груди своей схватил Мамай рукою;
Но пал, и трясучись о землю тылом бил,
Из раны чорна кровь ударилась* рекою;
Он очи злобныя на небо обратил.
Разинул челюсти! но гласа не имея,
Со скрежетом зубным извергнул дух во ад.
______________________
* Приметим здесь, как слово ударилась возвышает сила сего выражения. Всякое другое слово, как например: полилась, потекла, было бы меньше сильно. Для него, для того, что глагол ударилась соединяет в себе два понятия: полилась быстро. Подобные сему слова придают великую силу слогу. Сумароков притчу свою о болтливой жене, услышавшей за тайну от мужа своего, будто бы ночью снес он яйцо, оканчивает следующими стихами:
Сказала ей,
А та соседушке своей:
Ложь ходит завсегда с прибавкой в мире.
Яицо, два, три, четыре,
И стало под вечер пять сот яиц.
На завтрее к уроду
Премножестно сбирается народу
И незнакомых лиц:
За нем валит народ? Валит купить яиц.
Как слово валить сильно здесь и знаменательно! Господа втаскиватели в наш язык чужестранных слов и речей, никогда ваши трогательныя сцены, ни влияия на разумы, ни предметы потребностей, не будут иметь таковой силы.
(Знаю ныне, может быть еще более, нежели знал тогда, когда писал сию книгу, что приведение некоторых мест из Сумарокова долженствует в умах многих уронить ея цену. Стихотворец сей, столько в свое время прославляемый, сколько ныне презираемый, показывает, что достоинство писателей часто оценивается не умом, но головою. Ежели тогда превозносим он был несправедливо, то ныне еще несправедливее осуждается. Тогда, обращая внимание на многое хорошее в нем, извиняли его погрешности, молчали об них; а ныне совсем не читая его, и не зная ни красот, ни худостей, твердят, по наслышке один от другого, что он никуда не годится. Тож, благодаря вводимому журналистами новейшему вкусу, начинает распространяться и на других: Феофаны, Кантемиры, давно уже не читаются; Херасковы, Петровы, и сам Ломоносов, ветшают, никто в них не заглядывает; за ними чрез несколько времени последуют Державины и другие: таким образом ум и вкус наш будет вертящееся колесо, в котором одна восходящая на верх спица давит и свергает на низ другую. Не знаю, может ли такой вкус быть основателен, тверд, прочен, согласен с здравым рассудком, и полезен для языка.)
______________________
Инде с такою в полустишии расстановкою, какая в самой природе между ударом и отголоском онаго примечается, говорит:
Ударил по щиту: звук грянул меж горами.
Таков Ломоносов в стихах; таков же он в переводах и в прозаических сочинениях. Мы видели разум его и глубокое в языке знание; покажем теперь пример осторожности его и наблюдения ясности в речах. В подражании своем Анакреону говорит он о Купидоне:
Он чуть лишь ободрился,
Каков то, молвил, лук;
В дожде чать повредился,
И с словом стрелил вдруг.
Потребно сильный в языке иметь навык, дабы чувствовать самомалейшее обстоятельство, могущее ослабить силу слога или сделать его двусмысленным и недовольно ясным. В просторечии обыкновенно вместо чаять должно говорят сокращенно чай. Ломоносов тотчас почувствовал, что, поставя:
В дожде чай повредился, —
выйдет из сего двумыслие глагола чай с именем чай, то есть китайской травы, которую мы по утрам пьем; и для того, сокращая глагол чаять, поставил чать. Подобная сему осмотрительность показывает, с каким тщанием старался он наблюдать ясность и чистоту слога. Во всех его сочинениях видно соединенное с пылким воображением ума сильное в языке знание, которое приобрел он неусыпным в словесности упражнением. Таковое прилежное чтение российских книг отнимет у нынешних писателей драгоценное время читать французские книги. Возможно ли, скажут они с насмешкою и презрением, возможно ли трогательную Заиру, занимательного Кандида, милую Орлеанскую девку променять на скучный Пролог, на непонятный Несторов Летописец? Избегая сего труда, принимаются они за самый легкий способ, а именно: одни из них безобразят язык свой введением в него иностранных слов, таковых, например, как: моральный, эстетический, эпоха, сцена, гармония, акция, энтузиазм, катастрофа и тому подобных*. Другие из русских слов стараются делать не русские, как, например: вместо будущее время говорят будущность, вместо настоящее время — настоящность** и проч. Третьи французские имена, глаголы и целые речи переводят из слова в слово на русский язык, самопроизвольно принимают их в том же смысле из французской литературы в российскую словесность, как будто из их службы офицеров теми ж чинами в нашу службу, думая, что они в переводе сохранят то ж знаменование, какое на своем языке имеют. Например: influence переводят влияние и, несмотря на то что глагол вливать требует предлога в: вливать вино в бочку, вливает в сердце ей любовь, располагают нововыдуманное слово сие по французской грамматике, ставя его по свойству их языка, с предлогом на: J'aire l'influence surl'esprits, делать влияние на разумы*** Подобным сему образом переведены слова: переворот, развитие, утончанный, сосредоточить, трогательно, занимательно и множество других. В показанных ниже сего примерах мы яснее увидим, какой нелепый слог рождается от сих русско-французских слов. Здесь же приметим токмо, что по сему новому правилу так легко с иностранных языков переводить всех славных и глубокомысленных писателей, как бы токмо списывать оных****. Затруднение встретится в том единственно, что не знающий французского языка, сколь бы ни был силен в российском, не будет разуметь переводчика; но благодаря презрению к природному языку своему, кто не знает ныне по-французски? По мнению нынешних писателей, великое было бы невежество, нашед в сочиняемых ими книгах слово переворот, не догадаться, что оное значит revolution или, по крайней мере, revoke. Таким же образом и до других всех добраться можно: развитие, developpement; утончанный, rafine; сосредоточить, concentrer; трогательно, touchant; занимательно, interessant, и так далее. Вот беда для них, когда кто в писаниях своих употребляет слова: брашно, требище, рясна, зодчество, доблесть, прозябать, наитствовать и тому подобные, которых они сроду не слыхивали, и потому о таковом писателе с гордым презрением говорят: он Педант, провонял славенщиною и не знает французского в штиле элегансу. Между тем, невзирая на опасность гнева их, я осмелюсь продолжить здесь некоторые противные мнению их рассуждения, дабы упражняющихся в словесности молодых людей, не совсем заразившихся еще сею язвою, остановить, буде возможно, от предосудительного им исследования; ибо из сих рассуждений яснее можно будет усмотреть, что тот, кто переводит или, лучше сказать, перекладывает таким образом слова с одного языка на другой, худое имеет понятие о происхождении и свойстве языков и о их между собою соответствовании.
______________________
* Сии суть самые новомодные слова, и для того в нынешних книгах повторяются они почти на каждой странице; впрочем, в языке нашем имеются также и обветшалые иностранные слова, как, например: авантажиться, манериться, компанию водить, куры строить, комед играть и проч. Сии прогнаны уже из большого света и переселились к купцам и купчихам.
** Сии слова, нигде прежде в языке нашем не существовавшие, произведены по подобию слов изящность, суетность, безопасность и проч. Ныне уже оные пишутся и печатаются во многих книгах; а потому надеяться должно, что словесность наша время от времени будет еще более процветать. Например: вместо прошедшее время станут писать прошедшность; вместо человеческое жилище, по подобию с голубятнею, человечатня; вместо березовое или дубовое дерево, по подобию с телятиною, березятина, дубовятина и так далее. О! Мы становимся великими изобретателями слов.
*** Глагол влить есть не иное что, как глагол лить, соединенный с предлогом в, от которого безгласная буква отнята. Все составленные подобным образом глаголы соединяются с теми ж самыми предлогами, как, например: набежать на камень, исторгнуться из напасти, отбиться от неприятеля, слететь с дерева, войти в церковь, а когда надобно сказать на церковь, тогда употребляется другой глагол взойти. По какому ж правилу или примеру говорим мы влияние на разимы? По французскому? О! Мы выбрали прекрасную дорогу для обогащения языка своего! В Священных книгах находим мы: Дух Святый найде на Тя, в другом месте: Сохрани душу мою от наитствования страстей. Тако жив молитве к Богородице: Напастей ты прилоги отгонявши, и страстей находы, Лево. Здесь наитие или наитствование не иное что значит, как то самое понятие, которое французы изображают словом influence. Понятие сие и в просторечие введено; мы говорим: на него дурь находит, так как бы по-нынешнему сказать: безумие имеет влияние на его разум. Из сего видеть можно, что если бы тот, кто первый слово influence перевел влиянием, читал старинные русские книги, то бы он почерпал слова из них, а не из французских книг, и тогда не находили бы мы в нынешних сочинениях таковых вздорных речей, каковы суть следующие: Авторскою деятельностию иметь влияние на современников. — Несходство в характере разума и Авторства имеет влияние на суд о человеке. — Находиться под влиянием исключительной торговли. — Сие приключение имело влияние на ход политики. — И тому подобные. Мне случилось разговаривать с одним из защитников нынешних писателей, и когда я сказал ему, что слово influence переведено влиянием не потому, чтоб в языке нашем не было соответствующего ему названия, но потому что переводчик не знал слова наитствоват, изображающего то ж самое понятие; тогда отвечал он мне: Я лучше дам себя высечь, нежели когда-нибудь соглашусь слово это употребить. Сие одно уже показывает, как много заражены мы любовию к французскому и ненавистию к своему языку. Какая же надежда ожидать нам красноречивых писателей, и мудрено ли, что у нас их нет?
**** Например: un des hommes de France qui a le plus d'esprit, qui a rempli avec Succes des grandes places, et qui a ecrit sur divers objets avec autant d'interet que d'elegance, a dit, dans des Considerations Sur 1'etat de la France: один из людей Франции, который имел наиболее разума, который наполнял с успехом великие места и который писал на разные предметы с такою занимательностью, как элегансом, сказал в рассуждениях на состояние Франции. Сей перевод весьма похож на многие нынешние.
______________________
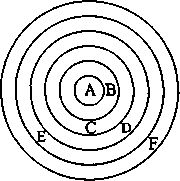
Во всяком языке есть множество таких слов или названий, которые в долговременном от разных писателей употреблении получили различные смыслы или изображают разные понятия, и потому знаменование их можно уподобить кругу, рождающемуся от брошенного в воду камня и тотчас далее пределы свои распространяющему. Возьмем, например, слово свет и рассмотрим всю обширность его знаменования. Положим сначала, что оно заключает в себе одно токмо понятие о сиянии или о лучах, исходящих от какого-нибудь светила, как-то в следующей речи: солнце разливает свет свой повсюду. Изобразим оное чрез круг А, которого окружность В определяет вышесказанный смысл его, или заключающееся в нем понятие. Станем потом приискивать оное в других речах, как наприклад в следующей: Свет Христов просвещает всех. Здесь слово свет не значит уже исходящие лучи от светила, но учение или наставление, проистекающее от премудрости Христовой. И так получило оно другое понятие, которое присоединяя к первому, находим, что смысл слова сего расширился, или изображающий его круг А распространился до окружности С. В речи: семьдесят веков прошло, как свет стоит, — слово свет не заключает уже в себе ни одного из вышеписанных понятий, но означает весь мир или всю вселенную. Присоединяя сие третие понятие к двум первым, ясно видим, что круг А распространился до окружности D. В речи: он натерся в свете — слово свет представляет паки новое понятие, а именно общество отличных людей: следовательно, круг А распространился еще до окружности Е. В речи: Америка есть новый свет — слово свет означает новонайденную землю, подобную прежде известным, то есть Европе, Азии и Африке. И так круг А получил еще большее распространение. Наконец от сего слова, как бы от некоего корня, произошли многие ветви или отрасли: светлый, светский, светящийся, светило, светлица и так далее. Каждая из сих отраслей также в разных смыслах употребляется: светлое солнце — значит сияющее; светлая одежда — значит великолепная; светлое лице — значит веселое. Под именем светского человека разумеется иногда отличающийся от духовного, а иногда умеющий учтиво и приятно обращаться с людьми. Таким образом круг, определяющий знаменование слова свет, отчасу далее расширяет свои пределы. Сие есть свойство языка, но в каждом языке данные одному слову различные смыслы и произведение от них других слов или распространение вышепомянутого круга, определяющего их знаменование, не одинаким образом делается. Например, в сказанной выше сего речи: солнце разливает свет свой повсюду — российскому слову свет соответствует французское слово lumiere; но в другой речи: семьдесят веков прошло, как свет стоит, — тому ж самому слову во французском языке соответствует уже слово monde, а не lumiere. Равным образом от российского имени свет происходит название светило; напротив того, во французском языке светило называется особливым именем Astre, отнюдь не происходящим от слова lumiere.
Происхождение слов подобно древу; ибо как возникающее от корня младое дерево пускает от себя различные ветви, и от высоты возносится в высоту, и от силы преходит в силу, так и первоначальное слово сперва означает одно какое-нибудь главное понятие, а потом проистекают и утверждаются от оного многие другие. Часто корень его теряется от долговременности. Старинное славенское или от славенского происходящее слово доба ныне нам совсем не известно. Может быть, оно заключало в себе пространный смысл, но мы из некоторых находимых нами в книгах весьма не многих речей, таковых, как: доба нам от сна встати, знаем токмо часть оного, догадываясь, что оно значило пора или не худо. Между тем корень сей сколько пустил различных отраслей? Надобно, снадобье, подобно, удобно, сдобно, подобает, сподобиться, преподобие, доблесть, а может быть, и слово добро от него ж имеет свое начало. От глагола разить или от имени раз происходят слова: поражение, раздражение, выражение, возражение, подражание и проч. Все оные изображают различные понятия. Соответствующие сим французские слова: irritation, expression, imitation и проч. от одного ли проистекают источника? Могут ли два народа в составлении языка своего иметь одинакие мысли и правила? Отсюда выходит следующее рассуждение:
Все известные нам вещи разделяются на видимые и невидимые, или, иначе сказать, одни постигаем мы чувствами, а другие разумом: солнце, звезда, камень, дерево, трава и проч. суть видимые вещи; счастие, невинность, щедрота, ненависть, лукавство и проч. суть вещи умственные, или разумом постигаемые. Каждая из всех сих вещей на всяком языке изображается особливым названием; но между сими различными каждого языка словами, означающими одну и ту ж самую вещь, находится следующая разность: те из них, кои означают видимую вещь, хотя звуком произношения и составляющими их письменами различны между собою, однако ж круг знаменования их на всех языках есть почти одинаков; везде, например, где стоит во французском soleil, или в немецком sonne, или в английском sun, можно в российском поставить солнце. Напротив того, те названия, коими изображаются умственные вещи, или действия наши, имеют весьма различные круги знаменований, поелику, как мы выше сего видели, происхождение слов, или сцепление понятий, у каждого народа делается своим особливым образом. В каждом языке есть много даже таких слов, которым в другом нет соответствующих*. Тако ж одно и то ж слово одного языка в разных составах речей выражается иногда таким, а иногда иным словом другого языка. Объясним сие примерами:
______________________
* Мы говорим: зги не видать. Какое знаменование имеет на французском языке слово зга? Прохожий, у Сумарокова в притче, укоряя старика, идущего пешком за мальчиком, который ехал на осле верхом, говорит ему лучше бы мальчику велел ты идти пешком, а сам бы ехал, старый хрен! Употребление сделало, что метафорический смысл выражения старый хрен весьма для нас понятен: следовательно, в нашем языке имеет оно некоторый круг знаменования; но во французском языке vieux raifort означает токмо самую вещь, а в метафорическом смысле никакого круга знаменования не имеет.
______________________
Положим, что круг, определяющий знаменование французского глагола, например, toucher, есть А и что сему глаголу в российском языке соответствует, или то ж самое понятие представляет, глагол трогать, которого круг знаменования да будет В.

Здесь, во-первых, надлежит приметить, что сии два круга никогда не бывают равны между собою так, чтоб один из них, будучи перенесен на другого, совершенно покрыл его; но всегда бывают один другого или больше или меньше; и даже никогда не могут быть единоцентренны, как ниже изображено. Но всегда пресекаются между собою и находятся в следующем положении:

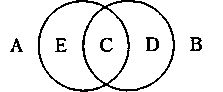
С есть часть, общая обоим кругам, то есть та, где французский глагол toucher соответствует российскому глаголу трогать или может быть выражен оным, как, например, в следующей речи: toucher avec les mains, трогать руками.
В есть часть круга французского глагола toucher, находящаяся вне круга В, означающего российский глагол трогать, как, например, в следующей речи: toucher le clavicin. Здесь глагол toucher не может выражен быть глаголом трогать; ибо мы не говорим трогать клавикорды, но играть на клавикордах; итак, глаголу toucher соответствует здесь глагол играть.
D есть часть круга российского глагола трогать, находящаяся вне круга А, означающего французский глагол toucher, как, например, в следующей речи: тронуться с места. Здесь российский глагол тронуться не может выражен быть французским глаголом toucher, поелику французам не свойственно говорить: Se toucher d'un place; они объясняют сие глаголом partir. Итак, в сем случае российскому глаголу трогать соответствует французский глагол partir.
Рассуждая таким образом, ясно видеть можем, что состав одного языка не сходствует с составом другого и что во всяком языке слова получают силу и знаменование свое, во-первых, от корня, от которого они происходят, во-вторых, от употребления. Мы говорим: вкусить смерть; французы не скажут gouter, а говорят subir la mort. Глагол их assister по нашему значит иногда помогать, а иногда присутствовать, как, например: assister un pauver, помогать бедному, и assister a la ceremonie, присутствовать при отправлении какого-нибудь обряда. Каждый народ имеет свой состав речей и свое сцепление понятий, а потому и должен их выражать своими словами, а не чужими или взятыми с чужих. Но хотеть русский язык располагать по-французскому или теми же самыми словами и выражениями объясняться на русском, какими французы объясняются на своем языке, не то ли самое значит, как хотеть, чтоб всякий круг знаменования российского слова равен был кругу знаменования соответствующего ему французского слова? Возможно ли сие сделать и сходно ли с рассудком желать часть Е их круга А включать в наш язык, а часть D нашего круга В выключить из оного, то есть вместо играть на клавикордах говорить: трогать клавикорды! Не чудно ли, не смешно ли сие? Но мы не то ли самое делаем; когда вместо жалкое зрелище говорим трогательная сцена; вместо сближить к средине — сосредоточить и так далее? Остается только истребить часть D: то есть все те речи, которые не могут из слова в слово переведены быть на французский язык, объявить не русскими и выключить их из нашего языка, яко недостойные пребывать в оном. Как ни кажется таковая мысль нелепою и невозможною, и что сей путь не во храм красноречия ведет нас, но в вертеп невразумительного вранья; однако из предыдущих примеров уже несколько явствовало, а из последующих еще яснее будет, что мы всякое тщание и попечение о том прилагаем.
Главная причина, к какой многие нынешние писатели относят необходимость рабственного подражания их французам, состоит в том, что они, читая французские книги, находят иногда в них такие слова, которым, по их мнению, на нашем языке нет равносильных или точно соответствующих*. Что ж до того? Неужели без знания французского языка не позволено быть красноречивым? Мало ли в нашем языке таких названий, которых французы точно выразить не могут? Милая, гнусный, погода, пожалуй, благоутробие, чадолюбие и множество сему подобных, коим на французском языке, конечно, нет равносильных; но меньше ли чрез то писатели их знамениты? Гоняются ли они за нашими словами и говорят ли: mon petit pigeon, для того, что мы говорим: голубчик мой? Стараются ли они глагол приголубить выражать на своем языке глаголом, происходящим от имени pigeon, ради того, что он у нас происходит от имени голубь? Силу наших речей, таковых, например, как: мне было говорить, писать было тебе к твоему отцу, быть писать, быть по сему и проч. Выразят ли они на своем языке, когда переведут их из слова в слово: а mor eteparler, ecrire a toi ete, etre ecrire, etre comme cela etc.? Странно бы сие было и смешно, и не было бы у них ни Расинов, ни Буалов, если б они так думали; но мы не то ли самое делаем? Не находим ли мы в нынешних наших книгах: подпирать мнение свое, двигать духами, черта злословия и проч.? Не есть ли это рабственный перевод с французских речей: soutenir son opinion, mouvoir les esprits, un trait de satire? Я думаю, скоро boire a long traits станут переводить пить долгими чертами, il a epouse ma colere: он женился на моем гневе. Наконец меньше ли странны следующие и сим подобные речи: имена мелкие цены. — Принудился провождать скитающуюся жизнь. — Голова его образована для тайной связи с невинностию. — Храбрость обоих оказывается сам на сам. — Закон ударяет совсем на иные предметы и проч.?
______________________
* Иных, может быть, нет, а другие и есть, но мы, не читая книг своих, не можем их знать. Виноват ли бы был язык, если бы кто слово preface перевел предличие, не знав, что оно давно уже употребительно и называется предисловием? Мы выше сего видели подобный сему перевод слова influence; а в приложенных ниже сего примечаниях еще более таковых примеров увидим.
______________________
Между тем, как мы занимаемся сим юродливым переводом и выдумкою слов и речей, нимало нам несвойственных, многие коренные и весьма знаменательные российские слова иные пришли совсем в забвение; другие, невзирая на богатство смысла своего, сделались для не привыкших к ним ушей странны и дики; третьи переменили совсем знаменование свое и употребляются не в тех смыслах, в каких сначала употреблялись*. Итак, с одной стороны, в язык наш вводятся нелепые новости, а с другой — истребляются и забываются издревле принятые и многими веками утвержденные понятия: таким-то образом процветает словесность наша и образуется приятность слога, называемая французами elegancel
______________________
* В продолжение сего сочинения увидим мы тому ясные примеры и доказательства.
______________________
Многие ныне, почитая невежество свое глубоким знанием и просвещением, презирают славенский язык и думают, что они весьма разумно рассуждают, когда изо всей мочи кричат: неужели писать аще, точию, вскую, уне, поне, распудити и проч.? Таких слов, которые обветшали уже и места их заступили другие, толико же знаменательные, конечно, нет никакой нужды употреблять; но дело в том, что мы вместе с ними и от тех слов и речей отвыкаем, которые составляют силу и красоту языка нашего. Как могут обветшать прекрасные и многозначащие слова, таковые, например, как: дебелый, доблесть, присно, и от них происходящие: одебелеть, доблий, приснопамятный, приснотекущий и тому подобные? Должны ли слуху нашему быть дики прямые и коренные наши названия, таковые, как: любомудрие, умоделие, зодчество, багряница, вожделение, велелепие и проч.? Чем меньше мы их употреблять станем, тем беднее будет становиться язык наш и тем более возрастать невежество наше; ибо вместо природных слов своих и собственного слога мы будем объясняться чужими словами и чужим слогом. Отчего, например, благорастворенный воздух есть выражение всякому вразумительное, между тем как речь: царство мудростью растворенное — многим кажется непонятною? Оттого, что они не знают всей силы и знаменования глагола растворять. Приложенный при конце сего сочинения Словарь хотя не иное что есть, как малый токмо опыт, однако из него довольно явствовать будет, как много есть таких слов, которых знаменования, оттого что мы пренебрегаем язык свой, не токмо не распространены, не обработаны, не вычищены, но, напротив того, стеснены, оставлены, забыты. Премножество богатых и сильных выражений, которые прилежным упражнением и трудолюбием могли б возрасти и умножиться, остаются в зараженных французским языком умах наших бесплодны, как семена, ногами попранные или на камень упавшие. Предосудительно, конечно, и нехорошо безобразить слог свой смешением высоких славенских речений с простонародными и низкими выражениями, но поставить знаменательное слово приличным образом и кстати весьма похвально, хотя бы оно и не было обыкновенное. У Ломоносова отчаянная Дидона, зложелательствуя Енею, говорит:
Зажгла б все корабли и с сыном бы отца
Истнила и сама поверглась бы на них.
Виноват ли Ломоносов, что употребил глагол истнит, которого знаменование может быть не всякому известно? Отнюдь нет. Довольно для него, что слово сие есть истинное русское и везде в Священных книгах употребляемое. Он писал для людей, любящих язык свой, а не для тех, которые ничего русского не читают и ни языка своего, ни обычаев своих, ни отечества своего не жалуют. Мы думаем, что мы весьма просвещаемся, когда, оставляя путь предков наших, ходим, как невольники, за чужестранными и в посмеяние себе всякой глупости их последуем и подражаем! Мы не говорим ныне: лице светлое щедротою, уста утешением сладкие, для того, что французы не говорят: visage lumineuxpargenerosite, levres douces par consolation; но, напротив того, говорим: предмет нежности моей, он вышел из его горницы спанья (вместо из своей спальни), для того, что они говорят: objet de та tendresse, il est sorti de sa chambre a coucher. Мы начинаем забывать и уже нигде в новых книгах своих не находим старинных наших выражений и мыслей, каковы, например, суть нижеследующие:
Препоясал мя еси силою на брань.
Уже тебе пора во крепость облещис.
Горняя мудрствуйте, не земная.
Утвердил ecu руку свою на мне.
В скорби распространил мя ecu.
Вещает ветхий деньми к ней.
Подвизаться молением непрестанным.
Воевать на Веру Православную.
Защитить рукою крепкою и мышцею высокою.
Расти как телом, так и духом в премудрости и любви Божией.
Богатеть в телесныя и душевныя добродетели паче, нежели в сребро и злато.
Принесем хвалу солнцу мысленному Богу не вечернему.
Просвети сердце мое на разумение заповедей
Твоих, и отверзи устне мои на исповедание чудес Твоих.
Истина моя и милость моя с ним, и о имени моем вознесется рог Его.
Иди к пещерам Киевским, о Православие, иди восхождением сердечным грядый от силы в силу, иди и возревнуй видев пути тех, иже во ископанной земли не брашно гиблющее с мравиями, но пребывающее в животе вечный, еже есть творение воли Божия, собираху во время летнее жития сего, на зиму страшного суда, егда от лица мраза Его кто постоит?
Мы, говорю, ныне забываем сей слог, и сладкою изобильно текущею из богатого источника сего водою отнюдь не стараемся напоять умы наши. Что же мы делаем? На место сих колико сильных, толико же кратких и прекрасных выражений вводим в язык наш следующие и им подобные:
Жестоко человеку нещастному делать еще упреки, бросающие тень на его характер.
Погрузиться в состояние морального увядания.
Он простых нравов, но щастие наполнило его идеями богатства.
С важною ревностию стараться страдательное участие переменить на роль всеобщего посредничества.
Положение Государтва внутри, равно как и во внешних отношениях, было в умножающемся беспрестанно переломе.
Умножить предуготовительные военные сцены.
Отчаяние нужды превратилось в бурливые сцены и движения.
Ответы учеников на вопросы, деланные им при открытом испытании из предметов, им преподаваемых.
Чувствование несправедливости оживотворяло мещан наших духом порядка и соразмерной деятельности.
Он должен был опять сойти с зрелища, на котором исступленное его любочестие так долго выставлялось, и возвратиться в прежнее приватное свое состояние презрения, обманутых желаний и всеми пренебреженной посредственности и проч., и проч., и проч.
Мы думаем, быть великими изобретателями и красноречия учителями, когда коверкая собственные слова свои пишем: уистинствовать, ответность, предельность, повсенародность, возуповая, смертнозаразоносящаеся, ощутителнейшее вразумление, практическое умоключение и проч.
Мы не хотим подражать Ломоносову и ему подобным. Он, например: описывая красоту рощи, между прочим в конце своего описания говорит: но что приятное и слух услаждающее пение птиц, которое с легким шумом колеблющихся листов и журчанием ясных источников раздается? Не дух ли и сердце восхищает и все суетным рачением смертных изобретенные роскоши в забвение приводит. Это слишком просто для нас. Слог наш ныне гораздо кудрявее, как например: в сердечном убеждении приветствую тебя, ближайшая сенистая роща! прохладной твоей мрачности внимали мои ощущения разнеженные симфониею пернатых привитающих.
Напитавшимся тонким вкусом Французской литературы, может ли нравиться нам подобное сему описание весны:
Смотреть на роскошь преизобилующие натуры, когда она в приятные дни наступающего лета, поля, леса и сады нежною зеленью покрывает, и бесчисленными родами цветов украшает, когда текущие в источниках и реках ясные воды, с тихим журчанием к морям достигают, и когда обремененную семенами землю, то любезное солнечное сияние согревает, то прохлаждает дождя и росы благорастворенная влажность, слушать тонкий шум трепещущихся листов и внимать сладкое пение птиц: есть чудное и чувство и дух восхищающее увеселение.
или:
Как лютый мраз весну прогнавши,
Замерзлыля жизнь дает водам;
Туманы, бури, снег поправши,
Являет ясны дни странам,
Вселенну паки воскрешает,
Натуру нам возосбновляет,
Поля цветами красит вновь и проч.
или:
Кончает солнце круг, весна в луга идет,
Увеселяет тварь, и обновляет свет.
Сокрылся снег, трава из плена выступает.
Источники журчат, и жаворонок вспевает.
Нет! мы не жалуем ныне сей простоты, которую всякий разуметь может. Нет! мы любим так высоко летать, чтоб око ума читателева видеть нас не могло. Например:
Проникнутый эфирным ощущением всевозраждающей весны, схватив мирный посох свой милого мне Томсона, стремлюсь в объятия природы. Магической Май! Зиждитель блаженства сердец чувствительных, осеняемый улыбающимся зраком твоим сообщаюсь величественному утешению развивающейся натуры; юные красоты пленительного времени в амброзических благовониях развертываются во взоре моем. Какое удовольствие быть в деревне при симпатических предметах! Жажду созерцать неподражаемые оттенки рисующихся полей и проч.
Вот нынешний наш слог! Мы почитаем себя великими изобразителями природы, когда изъясняемся таким образом, что сами себя не понимаем, как например: в туманном небосклоне рисуется печальная свита галок, кои, кракая при водах мутных, сообщают траур периодический. Или: в чреду свою возвышенный промысл предпослал на сцену дольнего существа новое двунадесятомесячие: или: я нежусь в ароматических испарениях всевожделенных близнецов. Дышу свободно благими Эдема, лобызаю утехи дольнего рая, благоговия чудесам Содетеля, шагаю удовольственно. Каждое воззрение превесьма авантажно. Я бы не кончил сих или, ест ли бы захотел все подобные сему места выписать из нынешних книг, которые не в шутках и не в насмешку, но уверительно и от чистого сердца, выдают за образец красноречия.
Наконец, мы думаем быть Оссиянами и Стернами, когда, рассуждая о играющем младенце, вместо: как приятно смотреть на твою молодост! Говорим: коль наставительно взирать на тебя в раскрывающейся весне твоей! Вместо — луна светит — бледная геката отражает тускые отсветки. Вместо — окна заиндевели — свирепая старица разрисовала стекла. Вместо — Машинька и Петруша, премилые дети, тут же с нами сидят и играют — Лолота и Фан-фан, благороднейшая чета, гармонируют нам. Вместо — пленяющий душу сочинитель сей тем больше нравится, чем больше его читаешь — Элегический Автор сей, побуждая к чувствительности, назидает воображение к вящшему участвованию. Вместо: любуемся его выражениями: интересуемся назидательностию его смысла. Вместо: жаркий солнечный луч, посреди лета, понуждает искать прохладной тени: в средоточие лета жгущий лев уклоняет обрести свежесть. Вместо: око далеко отличает простирающуюся по зеленому лугу пыльную дорогу: мноездный тракт в пыли являет контраст зрению. Вместо: деревенским девкам на встречу идут цыганки: пестрые толпы сельских ореад сретаются с смуглыми ватагами пресмыкающихся Фараонит. Вместо: жалкая старушка, у которой на лице написаны были уныние и горесть: трогательной предмет сострадания, которого унылозадумчивая Физиогномия означала гипохондрию. Вместо: какой благорастворенный воздух! Что я обоняю в развитии красот вожделеннейшего периода! и проч.
Предки наши мало писали стихами и не знали в оных ни определенной меры, ни сочетания, ни стопосложения; но хотя стихи их токмо рифмою отличаются от прозы, однако ж оные, по причине ясности в них разума и порядочной связи мыслей, всегда для чтения приятны. Например, в притче о блудном сыне приближающийся к концу своей жизни отец, вручая детям своим немалое богатство и представляя им в самом себе образец, что Бог не оставляет никогда тех, кои, призывая Его на помощь, в честных трудах век свой препровождают, делает им следующее наставление:
Токмо есть треб Бога вам хвалити,
В любви и правде Ему послужити.
Благодарствие в сердцах ваших буди,
Милость хранити на нищия люди.
Мир, смирение, кротость сохраняйте.
Всякия злобы от вас отревайте
Мудрость стяжите, правда буди с вами,
Лжа не изыди вашими устами.
С честными людьми дружество держите,
Прелюбы творцев далече бежите.
Бежите всех злых, яко люта змия,
Вся заповеди сохраните сия.
Сии стихи не имеют той чистоты и согласия, каковые дает им определенная мера и стройное слогопадение; но ясность и простота их гораздо приятнее для меня, нежели многословное высокомыслие следующих или им подобных стихов:
Гармония! Не глас ли твой
К добру счастливых возбуждает,
Несчастных душу облегчает
Отрадной, теплою слезой?
Когда б подобить смертный мог
Невидимый и несравненный,
Спокойный, сладостный восторг,
Чем души в горних упоенны —
Он строй согласный звучных тел
И нежных гласов восклицанье
На душу, на сердца влиянье,
Небесным чувством бы почел.
Или:
Ударил в воздух голос твой
Размером хитрым, неизвестным,
И тем-же трепетом небесным
Сердца отозвались на строй.
Там вся связь мыслей и всякой стих мне понятен; а здесь: когдаб смертный мог подобить невидимый, спокойный восторг горних, он бы согласный строй звучных тел, и восклицание нежных голосов, на душу, на сердца влиянье, досель небесным чувством. Пусть тот, кто умнее меня, находит в этом мысль, а я ничего здесь, кроме несвязности и пустословия, не вижу. Подобные сему стихи: Сердца отозвались на строй, пусть для других кажутся трогательны и занимательны, но для меня никогда не будут они прелестны, равно как и следующие:
В безмолвной куще сосн густых,
Согбенных времени рукою,
Над глухо-воющей рекою,
От треску грома в облаках,
От бури свищущей в волнах,
И в черном воздух шипящей.
Куща ничего другого не значит, как шалаш или хижина; чтож такое: кущи сосн? И когда сосны рукою времени сгибаются? Прилично ли говорить о реке: глухо-воющая река? О буре: свищущая, шипящая буря?
Мы, удаляясь от естественной простоты, от подобий обыкновенных и всякому вразумительных, и гоняясь всегда за новостию мыслей, за остроумием, так излишно изощряем, или, как ныне говорят, утончиваем понятия свои, что оные чем меньше мысленным очам нашим от чрезвычайной тонкости своей видимы становятся, тем больше мы им удивляемся и называем это силою Гения. Сие-то расположение ума нашего и упоение оного чужестранными часто нелепыми писаниями рождает в нем охоту подражания и любовь к чудным сим и сему подобным выражениям: нежное сердце, которое тонко спит под дымкою прозрачной, или: сердечной терн быть может дара тать, или: неосторожно свесть две сцены жития и проч. Неосторожно я поступлю, если все то выписывать стану, что в нынешних книгах почти на каждой странице попадается.
Кантемир в стихах своих к Государыне Елисавете Петровне говорит:
Отрасль ПЕТРА Перваго, его же сердцами,
Великим и отцем звал больше нежь устами
Народ твой! отрасль рукой взращенна самого
Всевышняго, полкруга в надежду земнаго!
Стихи сии конечно похожи на прозу; но между тем какая в них чистая, величавая мысль, и какой хороший слог! Напротив того в следующих стихах хотя есть мера и стопы, но какой в них странной слог, и какая темная мысль:
Лишь в обществе душа твоя себе сказалась,
И сердце начало с сердцами говорить,
Одна во след другой идея развивалась,
И скоро обняла вселенную их нить!
Что такое: душа себе сказалась? Что: такое: одна идея развивается во след другой и нит их обнимает вселенную? Какие непонятные загадки!
Если предки наши не умели писать стихов, то в прозе своей были они стихотворцы, возьмем каноны их, псалмы, акафисты, ирмосы, мы часто увидим в них стихотворческого огня блистание, как, например:
Спасе люди, чудодействуяй Владыка, мокрую моря волну оземленив древле: волею жерождься от Девы, стезю проходну небесе полагает нам: Его же по существу равна же Отцу и человеком славим. Ирмос сей преложен в следующие стихи:
Владыка спасл людей чудесно,
Путь в мори им открыв земной;
От Девы же родясь телесно,
Сказал нам к небу путь иной.
Его мы должны вси прославить,
Отцем рожденна прежде век,
И нам и Богу равна ставить,
Он есть и Бог и человека.
Стихи сии не худы, но между тем где больше стихотворства, в сем ли стихе: путь в мори им открыв земной или в сей прозе: мокрую моря волну оземленив древле? Какие слова могут изобразить кратче и сильнее власть Божескую, как не сии: Господь рече: да будет свет, и бысть? Какое изречение стихотворца, умствующего о ничтожности мирских величий, поразит воображение наше вящше и живее, нежели сии слова, сказанные о возносящем под облака главу свою и низверженном бурею кедре: мимо идох и се не бе! Можно ли мысль сию, что душевное удовольствие много способствует телесному здравию нашему, короче и краше сего выразить: сердцу веселящуся, лице цветет?* Прочтем псалмы Давидовы: сколько красот найдем мы в них, невзирая на темноту перевода их! Сила нижеследующих могущество, великолепие и славу Божию выражающих речений уступает ли огню самых лучших стихотворцев:
______________________
* Ломоносов в Грамматике своей говорит: "сожалетельно, что из обычая и употребления вышло Славенское в сочинении глаголов свойство, когда вместо депричастий дательный падеж причастий полагался, который служил в разных лицах: Ходящу мне в пустыне показался зверь ужасный. И хотя еще есть некоторые того остатки Российскому слуху сносные, как, Бывшу мне на море восстала сильная буря; однако прочие из употребления вышли. В высоких стихах можно по моему мнению с рассуждением некоторые принять. Может быть со временем общий слух к тому привыкнет, и сия потерянная краткость и красота в Российское слово возвратится." Я на сие ответствую, благоязычный наш песнопевец! Ты так мнил, потому что ты искусен был в языке своем; но так ли рассуждают нынешние писатели наши, есть ли не все, то по крайней мере весьма многие из них? Ты сожалеешь о потерянных красотах Славенского слога, и думаешь, что со временем возвратим мы их в язык свой и приучим к ним слух наш. — Нет, совсем напротив; мы отчасу больше отвыкаем от них, приучим слух свой к неслыханным в твои времена нелепостям, составляем новый язык, ни Славенской, ни Руской, и называем это совершенством словесности и красноречия! Ты разсуждая о языке своем сказал некогда: "Карл пятый Римский Император, говаривал, что Ишпанским языком с Богом, Французским с друзьями, Немецким с неприятелями, Италиянским с женским полом говорить прилично. Но есть ли бы он Российскому языку был искусен, то конечно к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, Ибо нашел бы в нем великолепие Ишпанского, живость Французского, крепость Немецкого, нежности Италиянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость Греческого и Латинского языка. Обстоятельное всего сего доказательство, требует другаго места и случая. Меня долговременно в Российском слове упражнение о том совершенно уверяет. Сильное красноречие Цицероново, великолепная Виргилиева важность, Овидиево приятное витийство не теряют своего достоинства на Российском языке. Тончайшие философские воображения и рассуждения, многоразличные естественные свойства и перемены, бывающие в сем видимом строении мира и в человеческих обращениях, имеют у нас пристойные и вещь выражающие "речи." Ты рассуждал так, и хотя сочинениями своими доказал сию истину, однако ты еще не Оракул; многие из нынешних наших писателей по глубже тебя рассуждают; они начитавшись Француских книг, и не заглядывая ни в одну свою, ясно увидели, что старый язык наш никуда негодится, и для того положили составишь новый, превосходнейший, совершенный, не слыханный доселе: они стараются достигнуть до сего время различными средствами: 1. Употребляют Славенские слова не в тех знаменованиях, в каких оне прежде употреблялись, как например: вместо надлежит или должно, говорят довлеет, которое слово значит довольно; вместо куча, думая писать возвышенным слогом, пишут куща, которое слово значит шалаш; вместо слушать с раболепностию или со страхом, говорят с подобострастием, которое слово значит одинакую страстям подвластность, и так далее; 2. Не вникая в язык свой многих слов не знают, или по не упражнению своему в чтении книг своих почитают их обветшалыми, и делают на место оных новые слова сочиняя и спрягая их не по смыслу и разуму коренных знаменований оных, но по приучению слуха своего к чужим словам и объяснениям, как то; начитанность, картинное положение, письменный человек, и тому подобные. В рассуждении же иностранных слов поступают они различно: некоторые имена принимают без перевода, и делают из них глаголы, как например: энтузиазм, энтузиатствовать; гармония, гармонировать; сцена, быть на сцене, выходит на сцену и проч. Сим словам кажется как будто приписывают они некое волшебное могущество, которое силу всякого Русского выражения препобеждает. Например: в следующих из Платоновой на коронацию речи словах: но паче да явиши собою пример благочестия, и тем да заградиши нечестивыя уста вольнодумства, и да укротиши злый дух суеверия и неверия, выражение говорю, укротить злый дух суеверия, кажется им недовольно тонко и живописно; они бы сказали: укротить Энтузиасм Фанатизма. Однакожь не все иностранные слова почитают они священными; иныя из них покушаются переводить, не приискивая в своем языке подобознаменательных, но так сказать, приказывая Сидору быть Карпом как например: Фаталист да будет случайным, Механизм да будет оснастка и проч. 3. Почти каждому слову дают они не то знаменование, какое оно прежде имело, и каждой речи не тот состав, какой свойствен грубому нашему языку. Отосюду по их мнению рождается сия тонкость мыслей, сия нежность и красота слога, как например следующая, или сему подобная: бросать убегающий взор на распростертую картину нравственнаго мира. — Изображать заимственныя предметы из природы усовершенствованной вкуса к воображения. — Сей отрывок носит на себе библейскую, покоряющую важность. — Сия История весьма живописательна. — Слог его блистателен, натурален, довольно чист; повествование живо; портреты иветны, сильны; но худо обдуманы, и проч. и проч. Можно ли, читая сие, не почувствовать новости языка? Как не поверишь, что словесности наша ныне токмо начинает рождаться и процветать? хотя бы кто все наши книги древние, не весьма древние и новейшие, (то есть лет десятка за два или за три писанные) от доски до доски прочитал, можно об заклад биться, что он не нашел бы в них ни взора убегающаго ни предметов заимственных, ни важности покаряющей, ни Истории живописательной, ни слова блистательнаго, ни портретов цветных и сильных. Академической словарь наш хотя и не давно сочинен, однако после того уже такое множество новых слов наделано, что он становится обветшалою книгою, не содержащею в себе нового языка.
______________________
Во исповедание и в велелепоту облеклся ecu. — Одеяйся светом яко ризою. — Ходяй на крилу ветреню. — Творяй Ангелы своя духи, и слуги своя пламень огненный. — Основали землю на тверди ея, не преклонится в век века. — Бездна яко риза одеяние ея. — На горах станут воды. — От запрещения гнева твоего побегнут, от гласа грома твоего убоятся. — Восходят горы, и нисходят поля в место еже основал ecu им. — Предел положил, его же не прейдут. — Коснется горам и воздымятся. — Дхнет дух его и потекут воды. — Словом Господним небеса утвердишася и духом уст его вся сила их? и проч. и проч. и проч. Какой перевод найдем мы лучше сего Соломоновых притчей перевода: Блажен человек, иже обрете премудрость и смертен, (то есть: и блажен смертный) иже уведе разум. Лучше бо сию куповати, нежели злата и сребра сокровища, честнейша же есть камений многоценных: не сопротивляется ей ничто же лукаво. Благознатна есть всем приближающимся ей, всякое же честное недостойно ея есть. Долгота бо жития и лета жизни в деснице ее, в шуйце же ее богатство и слава: от уст ея исходит правда, закон же и милость на языце носит. Путие ея путие добри, и вся стези ея мирны: древо живота есть всем держащимся ея, и восклоняющимся на ню, яко на Господа, тверда. Бог премудростию основа землю, уготова же небеса разумом? — Простой, средний и даже высокий слог российский, конечно, не должен быть точный славенский, однако ж сей есть истинное основание его, без которого он не может быть ни силен, ни важен, нет конечно никакой нужды, рассуждая о премудрости, говорить: лучше бо сию куповати; но что препятствует нам сказать о ней: в деснице ея долгота жизни, в шуйце ея богатство и слава; от уст ея исходит правда; закон же и милость на язык своем носит; все пути ея добры и все стези ея мирны? Самая малая перемена в словах, не ослабляя мысли, сохраняет всю красоту слога. Ничего нет безрассуднее, как думать, что славенский язык не нужен для красоты новейшего российского слога и что гораздо нужнее для сего французский язык, и какой еще? Не Славных поистине и отличных писателей их, но худых сплетателей нынешних глупых и нелепых умствований, клевет, небылиц и романов. Не их читать, не им последовать, не из них должно нам почерпать красоту слога; но из собственных творений своих, из книг славенских. В доказательство сего приведем здесь некоторые примеры.
Какой перевод найдем мы лучше сего Соломоновых притчей перевода: Блажен человек, иже обрете премудрость и смертен, (то есть: и блажен смертный) иже уведе разум. Лучше бо сию куповати, нежели злата и сребра сокровища, честнейша же есть камений многоценных: не сопротивляется ей ничто же лукаво. Благознатна есть всем приближающимся ей, всякое же честное недостойно ея есть. Долгота бо жития и лета жизни в деснице ея, в шуйце же ея богатство и слава: от уст ея исходит правда, закон же и милость на языце носит. Путие ея путие добри, и вся стези ея мирны: древо живота есть всем держащимся ея, и восклоняющимся на ню, яко на Господа, тверда. Бог премудростию основа землю, уготова же небеса разумом?— Простый, средний, и даже высокий слог Российский конечно не должен быть точный Славенский, однакож сей есть истинное основание его, без которого он не может быть ни силен, ни важен. нет конечно никакой нужды, рассуждая о премудрости, говорить: лучше бо сию куповати; но что препятствует нам сказать о ней: в деснице ея долгота жизни, в шуйце ея богатство и слава; от уст ея исходит правда; закон же и милость на язык своем носит; все пути ея добры и все стези ея мирны? Самая малая перемена в словах, не ослабляя мысли, сохраняет всю красоту слога. Ничего нет безрассуднее, как думать, что Славенский язык не нужен для красоты новейшего Российского слога, и что гораздо нужнее для сего Французский язык, и какой еще? Не славных по истине и отличных писателей их, но худых сплетателей нынешних глупых и нелепых умствований, клевет, небылиц и романов. Не их читать, не им последовать, не из них должно нам почерпать красоту слога; но из собственных творений своих, из книг Славенских. В доказательство сего приведем здесь некоторые примеры.
Как ни прекрасна Ода, выбранная из Иова таковым великим стихотворцем, каков был Ломоносов, и хотя оная написана ясным, чистым и употребительным Российским языком, и притом сладкогласием рифм и стихов украшена; однако не все красоты подлинника (или Славенского перевода) исчерпал он, и едва ли мог достигнуть до высоты и силы оного, писанного хотя и древним Славенским, не весьма уже ясным для нас слогом; но и тут, даже сквозь мрак и темноту, сияют в нем неподражаемые красоты, и пресильныя по истине стихотворческие в кратких словах многомысленные выражения. Сравним сии места. у Ломоносова Бог вопрошает человека:
Стесняя вихрем облак мрачный
Ты солнце можешь ли закрыть,
И воздух огустить прозрачный,
И молнию в дожде родить,
И вдруг быстротекущим блеском
И гор сердца трясущим треском
Концы вселенной колебать
И смертным гнев свой возвещать?
Прекрасное распространение мыслей, достойное пера великого стихотворца; но в подлиннике краткие сии слова не заключают ли в себе всей силы сего вопроса:
Веси же ли пременения небесная?
Призовеши же ли облак гласом? —
Поспеши же ли молнии и пойдут?
Ломоносов продолжает:
Твоей ли хитростью взлетает
Орел, на высоту паря,
По ветру крила простирает
И смотрит в реки и моря?
От облак видит он высоких
В водах и пропастях глубоких,
Что я ему на пищу дал.
Толь быстро око ты ль создал?
В подлиннике сказано:
И твоею ли хитростию стоит ястреб, распростер криле недвижим зря на юг? Твоим же ли повелением возносится орел? Неясыть же на гнезд своем сидя вселяется на версе камене и в сокровен? Тамо же сый ищет брашна, издалеча очи его наблюдают.
Ломоносов изобразил здесь единого орла; в подлиннике представлены в одинаком виде три различные птицы: ястреб, орел и неясыть, с приличными каждой из них свойствами: ястреб распростерши крылья, стоит неподвижно (какое свойственное сей птицы дано положение, и как прилично употреблен здесь глагол стоит); орел возносится; неясыть вселяется на вершине каменных гор, в местах потаенных: отколе очи их издалече наблюдают, ищут брашна, снеди. Не взирая на прекрасное в Ломоносове изображение орла, не имеет ли подлинник своей красоты? Сверх сего Ломоносов не все отличные места подлинника преложил в стихи; он не покусился изобразишь коня, толь прекрасно и величаво там описанного:
Или ты обложил еси коня силою, и облекл же ли еси выю его в страх? Обложил же ли еси его всеоружием, славу же персей его дерзостию? Копытом копая на поли играет, и исходит на поле с крепостию: сретая стрелы посмевается, и не отвратится от железа. Над ним играет лук и меч, и гневом потребит землю, и не имать веры яти, дондеже вострубит труба. Труб вострубившей глаголет: благо же: издалека же обновляет рать со скаканием и ржанием. В самом деле, что может быть величавее одетого в воинскую сбрую коня, силу и крепость ощущающего в себе, исходящего на ратное поле, гордо разгребающего копытами землю, посмевающегося устремленным на него стрелам и железным копьям, кипящего гневом, когда всадник над главою его играет своим мечем, и ожидающего с нетерпеливою радостью гласа трубного, при звуке коего с громким ржанием устремляется скакать на брань и битву?
Ломоносов описывает зверя, названного Бегемотом, и которого почитают быть слоном, или вероятнее единорогом или риноцером:
Воззри в леса на Бегемота,
Что мною сотворен с тобой;
Колючей терн его охота
Безвредно попирать ногой.
Как верьви сплетены в нем жилы.
Отведай ты своей с ним силы!
В нем ребра как литая медь:
Кто можем рог его сотреть?
В подлиннике сказано:
Се убо крепость его на чреслех, сила же его на пупе чрева. Постави ошиб яко кипарис, жилы же яко уже сплетены суть. Ребра его ребра медяна, хребет же его железо слияно. — Под всяким древом слит, при рогоз и тростии и ситовии: осеняют же над ним древеса велика с леторасльми, и ветьви напольныя*. Аще будет наводнение, не ощутит; уповает, яко внидет Иордан во уста его: во око свое возмет его, ожесточився продиравит ноздри (то есть увидя его, вместо чтоб почувствовать страх, озлится, расширит ноздри, приготовится к бою).
______________________
* Перевод сего места, или сих двух стихов, весьма темен. Впрочем из поверения оного с переводами иностранных библий добраться можно, что описываются здесь свойства сего зверя, и что смысл сих слов должен быть следующий: он любит спать под деревьями на мокрых болотистый местах, в тростнике и других подобных сим травах. Великия при водах растущия ивы покрывают его своею тению. В Немецкой библии сказано: er liegt gern im Sohatten, im Rohr, und im Schlam verborgen. Das Gebuoch bedeckt ihn mit seinem Schatten und die Bachueiden bedecken ihn.
______________________
Мне кажется изображение крепости и сил толь огромного животного, каков есть слон, или единорог в стихах у Ломоносова не довольно соответствует изображению действия или употребления тех же самых сил его; ибо о таком звере, у которого жилы как сплетенные верьви, ребра как литая медь, мало сказать, что он колючий терн безвредно попирает ногами. Не отъемля славы у сего великого писателя мнится мне, что надлежало бы сказать нечто более, нечто удивительнее сего. В подлиннике напротив того может быть уже чрез меру огромно сказано аще будет наводнение, не ощутит: уповает, яко внидет Иордан во уста его.
Наконец Ломоносов описывает другое животное, названное Левиафаном, и которое иные почитают быть китом, другие морским конем, третьи крокодилом. Сие последнее мнение, судя по описанию, кажется быть вероятнее прочих:
Ты можешь ли Левиафана
На уде вытянуть на брег?
В самой средине Океяна
Он быстрый простирает бег;
Светящимися чешуями
Покрыт как медными щитами,
Копье и меч и молот твой
Щитает за тростник гнилой.
Как жернов сердце он имеет,
И зубы страшный ряд серпов:
Кто руку в них вложить посмеет?
Всегда к сраженью он готов:
На острых камнях возлетет,
И твердость оных презирает;
Для крепости великих сил,
Щитает их за мягкой ил.
Когда ко брани устремится,
То море как котел кипит,
Как пещь гортань его дымится,
В пучине след его горит;
Сверкают очи раздраженны,
Как угль в горниле раскаленный.
Всех сильных он страшит гоня.
Кто может стать прошив меня?
В подлиннике сказано:
Извлекеши ли змия удицею, или обложиши узду о ноздрех его? Или вдежеши кольце в ноздри его? Шилом же провертиши ли устие его? Возглаголет же ли ти с молением, или с лрошением кротко? Сотворит же ли завет с тобою? Поймеши же ли его раба вечна? Поиграеши ли с ним, яко же со птицею, или свяжеши его яко врабия детищу? (то есть для игрушек сыну твоему: et le lieras tu pour amuser tes jeunes filles). Питаются же ли им языцы, и разделяют ли его финикийстии народи? Вся же плавающая собравшеся, не подъимут кожи единыя ошиба его; и корабли рыбарей главы его. Возложиши ли нан руку, воспомянув брань бывающую на тебе его? И к тому да небудет.— Кто открыет лице облечения его? В согбение же персей его кто внидет? Двери лица его кто отверзет. Окрест зубов его страх, утроба его щиты медяны, союз же его яко же смирит камень, един ко другому прилипают, дух же не пройдет его; яко муж брату своему прилепится, содержатся и не отторгнутся*. В чхании его возблистает свет: очи же его видение денницы. Из уст его исходят аки свещи горящия, и размещутся аки искры огненни: из ноздрей его исходищ дым лещи горящия огнем углия: душа же** его яко углие, и яко пламы из уст его исходят. На выи же его водворяется сила, пред ним течет пагуба. Плоти же телесе его сольянушася: лиет нан, и нелодвижится: (les muscles de sa chair sont lies; tout cela est massif en lui, rien n' y branle. Франц. die gliedmass seines Fleishes hangen an einander, und hangen hart an ihm, das er nicht zerfalen kan. Нем.) Сердце его ожесте аки камень, стоит же аки наковальня неподвижна. Обращшуся ему, страх зверем четвероногим по земли скитущим. Аще срящут его колия, ни что же сотворят ему, колие вонзено и броня: вменяет железо аки плевы, медь же аки древо гнило: не уязвит его лук медян, мнит бо каменометную пращу аки сено. Аки стеблие вменишася ему млатове: ругаетжеся трусу огненосному***. Ложе его остни острии, всяко же злато морское под ним, яко же брение беcчисленно. Возжизает бездну, яке же пещь медную: мнит же море яко мироварницу, и тартар бездны яко же пленника: вменил бездну в прохождение. Ничто же есть на земли подобно ему сотворено, поругано быти Ангелы моими: все высокое зрит: сам же царь всем сущим в водах.
______________________
* Во Французской и других библиях сказано просто: члены его соединенные один с другим пребывают нераздельны. Elles sout joint l'une a l'autre, elles s'entretienent, et ne te separent point. В Российском переводе употреблено подобие: яко муж брату своему прилепится. Сие подобие хотя к кажется быть затмевающим смысл и поставленным здесь не у места, однако ежели мы хорошенько вникнем в разум сих слов, то найдем их здесь весьма пристойными; ибо разумеется под оными союз между двумя друзьями: чтож может быть крепче и неразрывнее союза истинной дружбы?
** Душа здесь значит дыхание, Athem.
*** Здесь трус огненосный значит блеск потрясаемого пред очами его чистого иди светящегося оружия: er spottet den bebenden Lanzen, сказано в Немецкой Библии.
______________________
Вышесказанные стихи Ломоносова конечно весьма прекрасны; но для сравнения их с подлинником (то есть с Славенскихм переводом), надлежит, как уже и выше рассуждаемо было, представить себе во первых, что стихи, а особливо хорошие, всегда имеют над разумом нашим больше силы, чем проза; во вторых, что перевод Священных книг во многих местах невразумителен, частию по неточности преложения мыслей столь трудной и в такие древние времена писанной книги, каков есть Еврейский подлинник; частию по некоторой уже темноте для нас и самого Славенского языка; однако, не взирая на сию великую разность, сличим Славенский перевод с почерпнутыми из него стихами знаменитого нашего стихотворца, и рассмотрим, которое из сих описаний сильнее. Сперва покажем общее их расположение, а потом упомянем частно о некоторых выражениях.
Описание заключающееся в трех вышеозначенных строфах Ломоносова, состоит из двух членов или частей, из которых первую можно назвать предложением или вступлением, а вторую изображением или повествованием. Предложение состоит в следующих двух стихал:
Ты можешь ли Левиофана
На уде вытянуть на брег?
Прочие двадцать два стиха составляют изображение сего Левиофана, или повествование о силе и крепости его. Итак вещь представляется здесь просто, без всякого приуготовления воображения нашего к тому, чтоб оно вдруг и нечаянно нашло нечто неожидаемое. В Славенском переводе начинается сие описание следующими вопросами: извлечеши ли змия удицею, или обложиши узду о ноздрех его? Шилом же провертиши ли устие его? Возглаголет же ли ти с молением, или с прошением кротко? Сотворит же ли завет с тобою? Поймеши ли его раба вечна? Поиграеши ли с ним, яко же со птицею, или свяжеши его яко врабия детищу? Все сии вопросы располагают ум наш таким образом, что производя в нем любопытство узнать подробнее о сем описуемом звере или змие, нимало не рождают в нас чаяния услышать о чем-либо чрезвычайном: напротив того они удерживают воображение наше и препятствуют ему сделать наперед какое либо великое заключение о сем животном; ибо весьма естественно представляется нам, что кого нельзя извлечь удицею, того можно вытащить большою удою; кому нельзя шилом провертеть уста, тому можно просверлить их буравом; с кем нельзя поиграть как с воробьем, тот может быть еще не больше коршуна, и так далее. Между тем, говорю, как мы, судя по сим вопросам, отнюдь не ожидаем услышать о чем нибудь необычайном, каким страшным описанием поражается вдруг воображение наше: вся же плавающая собравшеся, не подъимут кожи единыя ошиба его, и корабли рыбарей главы его! Что может быть огромнее сего животного, и мог ли я сию огромность его предвидеть из предыдущих вопросов? Любопытство мое чрез то несравненно увеличилось; я с нетерпеливостью желаю знать, что будет далее. Желание мое постепенно удовлетворяется: после вышеупомянутого страшного о сем чудовище изречения, следуют паки вопросы, но гораздо уже сильнейшие прежних: кто открыет лице облечения его? В согбение же персей его кто внидет? Двери лица его кто отверзет? Окрест зубов его страх и проч. Сии вопросы воспламеняют мое воображение, возбуждают во мне глубокое внимание, наполняют меня великими мыслями, и следующее потом описание, соответствуя ожиданию моему, совершает в полной мере действие свое надо мною: здесь уже не щадится ничего, могущего изображение сие соделать великолепным, поразительным, страшным, чрезвычайным. Искусство, с каким описание сие расположено, дабы приуготовленный к любопытному вниманию ум мой вдруг поразить удивлением, час от часу увеличивающимся, подкрепляется, не взирая на темноту некоторых слов, силою таковых выражений, каковы например суть следующие:
Кто открыет лице облечения его? То есть: кто совлечет с него одежду (кожу с крокодила) для рассмотрения ее: qui est celui qui decouvrira le dessus de son vttement?
В согбение же персей его кто внидет? То есть: кто растворя вооруженную страшными зубами пасть лютого зверя сего, освидетельствует внутренний состав груди или тела его? Во Французской библии переведено сие отдаленно от смысла и неясно: qui viendra avec un double mors pour s'en rendre maitre?
Двери лица его кто отверзет? То есть: кто челюсти или зев его отворит, qui est-ce qui ouvrira l'entree de sa gueule?
Какая чудовищу сему дана крепость! Какое твердое слияние членов! Утроба его подобна медным щитам, ребра его как самые твердейшие камни, так плотно сольпнувшиеся, что воздух не пройдет сквозь их!
Очи его видение денницы. То есть: сверкающи, светоносны как заря: ses yeux sont comme les paupieres de l'aube du jour. Приметим красоту подобных выражений, свойственную одному Славенскому языку: очи его видение денницы, гортань его пещь огненная, хребет его железо слияно и проч. Здесь вещи не уподобляются между собою, но так сказать одна в другую претворяются. Воображение наше не сравнивает их, но вдруг, как бы некиим волшебным превращением, одну на месте другой видит. Есть ли бы мы сказали: очи его как денница светлы, гортань его как пещ огненная, хребет его крепостию подобен литому железу, то колико сии выражении были бы слабы пред оными краткими и сильными выражениями: очи его видение денницы, гортань его пещ огненная, хребет его железо слияно!
На выи же его водворяется сила, пред ним течет пагуба
Лишь только ополчишься к бою,
Предъидет ужас пред тобою,
И следом воскурится дым.
Обращшуся же ему, страх зверем четвероногим по земли скачущим от него. Какое прекрасное изображение ярости и силы одного, и трепета и боязни других бегущих от него животных! Впрочем переводы сего места различны: в Российском говорится о четвероногих зверях; во Французском весьма не к стати о людях: (les hommes les plus forts tremblent quand il s'eleve, et ils ne savent ou ils en sont, voyans comme il rompt; в Немецком, не упоминая ни о четвероногих, ни о людях, сказано просто и сильно: wenn er sich erhebt, so entsezen sich die starcken, und wenn er daher bricht, so ist keine Gnade da. То есть: восставшу же или поднявшуся ему, текут от него со страхом сильные, и горе тому, на кого он устремится.
Изо всего вышесказанного рассудить можем, что когда столь превосходный писатель, каков был Ломоносов, при всей пылкости воображения своего, не токмо прекрасными стихами своими не мог затмить красоты писанного прозою Славенского перевода, но едва ли и достиг до оной, то как же младые умы, желающие утвердиться в силе красноречия, не найдут в сокровищах Священного писания полезной для себя пищи? Или скажем, уподобляя тщательного стихотворца трудолюбивой пчеле, что когда при всем несомом ею тяжком бремени меда, не могла она, как токмо самомалейшую частицу оного высосать из обширного цветника, то колико цветник сей сладким сим веществом изобилен, богат, неистощим! Колико других, подобных ей пчел, посещая оный, могли бы бесчисленными обогатиться сокровищами! Но не посещая цветника сего не можем мы знать богатства оного. Мнение, что Славенский язык различен с Российским, и что ныне слог сей неупотребителен, не может служить к опровержению моих доводов: я не то утверждаю, что должно писать точно Славенским слогом, но говорю, что Славенский язык есть корень и основание Российского языка; он сообщает ему богатство, разум, силу, красоту. И так в нем упражняться, и из него почерпать должно искусство красноречия, а не из Боннетов, Волтеров, Юнгов, Томсонов и других иностранных сочинителей, о которых писатели наши на каждой странице твердят, и учась у них Русскому на бред похожему языку, с гордостью уверяют, что ныне образуется токмо приятность нашего слога. Но оставим их, и станем продолжать выписки и примеры наши из Священного писания, с примечаниями на оные: чем больше мы их соберем, тем яснее будет сия истина. Возьмем случайно какую нибудь молитву, на приклад следующую.
Святый славный и всехвальный Апостоле Варфоломее, всекрасный от своея крове Богопроповеднисе, желая во Христа облещися, всех своих, и самыя кожи плотския совлекся, живый же ныне в новости духа жизнь нестареемую, моли да и аз совлекшися ветхаго человека, облекуся в новаго созданнаго по Боз в правде, преподобии и истине.
Приметим во первых, как слово всекрасный здесь богато, оно равняется слову преславный, и гораздо богатее чем слово прекрасный. Впрочем от своея крове значит здесь: из рода своего. Во вторых, в сем кратком выражении: во Христа облещися,* какое изобилие мыслей заключается! Ибо оное значит: напитать душу свою учением Христовым, так крепко ее оградить им, как бы оное было броня, никакими стрелами страстей, ни соблазнов, ни угроз не проницаемая. Тем паче выражение сие с понятиями нашими сходственно, что, дабы сделаться истинным Християнином, оставить надлежит все прельщающие нас порочные желания, и возлюбить строгий путь добродетели, наподобие того, как бы скинуть с себя богатую, тщеславие увеселяющую, и надеть скромную, смиренномудрию приличную одежду, так как и здесь о Святом Варфоломее сказано: желая во Христа облещися, всех своих, и самыя плотския кожи совлекся. Приметим также и сие выражение, всех своих, как оно кратко здесь и многознаменательно, потому токмо, что не поставлено при оном никакого существительного имени, как например: богатства, друзей, родственников и проч.; ибо все сие не прибавило бы ничего к силе сих слов: всех своих, в которых все оное заключается. В третьих, после сей мысли, что человеке, облекающийся во Христа, всех своих и самыя плотския кожи совлекается, в какое отличное вступает он состояние? Начинает жить в новости духа жизнь нестареемую: какая прекрасная мысль, и каким прекрасным последовавшим из того рассуждением заключенная: моли да и аз совлекшися ветхаго человека, облекуся в новаго по Бозе в правде, прелодобии и истине! Так писали предки наши: в словах их заключалась всегда мысль, и мысль кратко и сильно выраженная. Нынешние Французско-Русские писатели не читают их, и от того-то впадают в сие невразумительное пустословие, почерпаемое из чтения одних чужеязычных книг.
______________________
* Подобно сему в переводе Ломоносова из Гомера Улисс говорит Ахиллесу:
Уже тебе пора во крепость облещись.
Каждому языку свойственны свои выражения. Француз не переведет наших слов: облечен во славу или одеян лучами славы, своими: revetu en gloire; а мы не переведем его: rayonant de gloire, своими: лучащий славою.
______________________
.....Но яко человеколюбиваго Бога Мати, приими мое еже от скверных устен приносимое Тебе моление, и Твоего Сына, и нашего Владыку и Господа, Матернее Твое дерзновение употребляющи, моли да отверзет и мне человеколюбныя утробы своея благости, и презрев моя безчисленная прегрешения, обратит мя к покаянию, и своих заповедей делателя искусна явит мя.
Приметим в сей к Богородиц молитве, как в оной речи: Матернее Твое дерзновение употребляющи, слово дерзновение прилично употреблено; ибо есть ли бы сказать: моли сына Твоего, употребляя Матернюю Твою над ним власть или силу, тогда бы понятие заключающееся в словах, молить, просить, имело некоторое противуречие с понятием, заключающимся в словах употреблять власть или силу, означающих паче верховность и повеление, нежели подчиненность и просьбу. Напротив того в словах: моли, употребляя Митернее Твое дерзновение, искусным образом соединены противоположные или несходственные между собою понятия о преимуществ и купно подчиненности таковой Матери, которая в Сыне своем зрит Всемогущего небес и земли Владыку. Другие могут взывать к нему со страхом и трепетом, но Ей одной пристойно умолять Его с дерзновением, то есть не со властью, какую имеет простая мать над простым сыном, но со смелостию, каковую Она, яко человек, не могла бы иметь к Богу, есть ли бы не была Матерь Его. Отсюду видеть можно, что в прежние времена о силе и знаменовании слов прилежно рассуждали, а не с таким легкомыслием лепили их, как во многих нынешних сочинениях. Ныне вместо: Матернее Твое дерзновение улотребляющи, моли да отверзет и мне человеколюбныя утробы своея благости, сказали бы: проси употребляя, как Мать, влияние Твое на Сына, чтоб Он оказал надо мною свою трогательность, и назвали бы это безподобною красотою слога.
Господи Вседержителю, сотворивый небо и землю со всею лепотою их, связавый море словом повеления Твоего, заключивый бездну, и запечатствовавый ю, страшным и славным именем Твоим, Его же вся боятся и трепещут от лица силы Твоея. Не богаты ли, не сильны ли выражения сии: словом повеления связать море? трепетать от лица силы?
От гласа воздыхания моего прильпе кость моя плоти моей.
Приведем еще несколько примеров из Библии, из Прологов, из Четиминей, и рассмотрим слог оных:
Кийждо делаше землю свою с миром. Старийшины на стогнах седяху, и вси о благих беседоваху, и юноши облачахуся славою и ризами ратными. И седе кийждо под виноградом своим, и смоковницею своею, и не бысть устрашающаго их. (Маккав. глав. 14). Какое прекрасное описание тишины и благоденствия народного при Царе мудром и добром!
Слышавшии блажиша мя, спасох бо убогаго от руки сильнаго, и сироте, емуже не бе помощника, помогох: благословение погибающаго на мя да приидет, уста же вдовича благословиша мя. Око бех слепым, нога же хромым, аз бых отец немощным. Избрах путь их, и седех Князь, и веселяхся якоже Царь посреде храбрых, утешаяй печальных. (Иова гл. 29). Какое превосходное царских должностей изображение: спасать убогого от руки сильного, вспомоществовать сироте, отирать слезы вдовицы; быть оком слепому, отцем немощному; трудиться разумом в избирании ведущих к общему благу путей; сидеть на престоле, повелевая и направляя умы всех к наблюдению законов; предводительствовать храбрыми и утешать печальных!
Простре Аароне руку на воды Египетския, и изведе жабы: яже излезше внидоша в домы и клети ложниц и на постели, и в домы рабов их, и в теста и в пещи, и на Царя, и на рабы его, и на люди его возлезоша жабы. И воскипе земля их жабами: яже егда повелением Моисеовым изомроша, собраша их Египтяне в стоги и стоги, и возсмердеся вся земля Египетская от жаб измерших и изгнивших.
Приметим здесь первое, как исчисление мест и вещей, и союз и, при каждом слове повторенный, умножает понятие о великом сих лезущих гадов количестве. Второе, как слово и воскипе прилично здесь и знаменательно. Третие, как выражение в стоги и стоги, гораздо сильнее, нежели бы сказано было: во многие стоги. Четвертое, какое глагол возсмердеся дает страшное и отвратительное понятие о сей ниспосланной на Египет казни, которая была бы несравненно слабее изображена, есть ли б сказано было: и заразися вся земля Египетская.
Шестая казнь, гнойные струпы горящии на человецех и скотех.
Седмая казнь, град и огнь горящ со градом. Какая стихотворческая мысль!
Отнюдь не почитаю я за излишнее выписать здесь из Четиминеи целое житие трех святых дев: книги сии редко читаемы бывают, и потому слог их мало известен.
Три девы Троице Святий в дар себе принесоша, Минодора, Митродора и Нимфодора. Инии приносят Богу дары от внешних имений своих, якоже иногда вси восточнии Царие, злато, ливан и смирну. Они же принесоша дары от внутренних сокровищ: принесоша душу яко злато, не истленным златом искупленную, но честною кровию яко агнца непорочна. Принесоша совесть чисту яко ливан, глаголюще со Апостолом: Христово благоухание есмы. Тело же в нетленном девств своем на раны за Христа давше, принесоша е в дар Богу яко смирну. Ведяху добр, яко Господь не наших временных богатств, но нас самих требует, по глаголу Давидову: Гослодь мой еси Ты: яко благих моих не требуеши. Самих убо себе Богу принесоша, яко же святое их житие и доблественное страдание являет.
Какое прекрасное вступление: три младые девы приносят в дар Богу не злато, ливан и смирну, но несравненно дражайшие сих сокровища: душу свою, чисту как искушенное злато; совесть свою, благоухающу как ливан; тело свое непорочное вместо смирны, ведая, что Бог не благих наших, но добродетелей наших требует. — Далее.
Сии родишася в Вифинии, сестры же суще по плоти, быша сестры и по духу; ибо единодушно избраша Богу работати паче, неже миру и сущим в мире суетствам. Хотяще же с душею и тело соблюсти нескверно, да чистотою чистому соединятся жениху своему Христу Господу, послушаша гласа Его глаголюща: изыдите от среды людей сих, и отлучитеся, и нечистот их не прикасайтеся, и Аз прииму вы. Изыдоша убо от сопребывания человеческаго, любяще зело в девстве пребывати, и устранившеся всего мира, на уединенном вселишася месте, добре ведуще, яко неудобь хранитися может чистота девическая посреде народа имущаго очи исполнь любодияния и непрестаннаго греха. (Рассуждение весьма справедливое). Яко же бо речныя воды входяще в море сладость свою погубляют, и с морскими совокуплешеся водами бывают сланы: тако и чистота егда посреде мира, аки посреде моря вселится, и возлюбит его, не возможно ей сланых сластолюбия вод не налитися. (Какое прекрасное уподобление!). Дщерь Иаковля Дина, донележе не вдаде себе в Сихем град Языческий, дотоль бе чиста дева: егда же изыде познати дщери тамо обитающия, и приобщися к ним, абие погуби девство свое. (Приметим искусство повествования: вышесказанное подобие уже довольно убедительно, однако оное подкрепляется еще примером). Окаянный Сихем мир сей с треми дщерми своими, с похотию плотскою, с похотию очес и гордостию женскою, ничто же ино весть, точию вредити прилепляющихся ему. Яко же смола очерняет прикасающагося ей, тако он своя рачители, черны, нечисты и скверны творит. Блажен бегаяй мира, да не очернится его нечистотами: блажена суть сия три девы, избегшия от мира и от триех его реченных злых дщерей, не очернишася бо их скверными, и быша белы и чисты голубицы, аки двумя крилами деянием и Боговидением летающия по горам и пустыням, желающе в Божественней любви, аки в гнезде почити: пустынным бо непрестанное Божественное желание бывает мира сущим суетнаго кроме. Пребывание же их бе на некоем высоком и пустом холме, сущем близ теплых вод в Пифиах: аки за два поприща тамо всельшеся живяху в посте и молитвах непрестанных. Тихое пристанище и покой добр чистоте своей девической обретоша, яже да невидима будет человеки, скрыша ю в пустыни: да видима же будет Ангелы, вознесоша ю на холм высокий. На высоту горы взыдоша, да прах земной от ног своих оттрясте к небеси приближатся. От самаго места, на нем-же пребываху, житие их добродетельное показовашеся. Что бо являет пустыня, аще не отвержение всего и уединение? что вещает холм, аще не Богомыслие их? что знаменуют теплыя воды, при них же живяху, аще не теплоту их сердечную к Богу? (какое соображение подобий, и какое остроумное изобретение мыслей к распространению слова!) Яко же бо Израиль избыв Египетския работы прохождаше пустыню, тако сия святыя девы изшедше от мира пустынное облобызаша житие. (Прекрасное выражение!). И яко Моисей возшед на гору узре Бога, тако сия на высоком холме суще, телесныя очи к Богу возвождаху, умными же взираху на него ясно. И яко тамо ударением в камень исхождаху воды, тако в них от смиреннаго в перси ударения поток слезный от очес их исхождаше. (Везде в уподоблениях соблюдена ясность и удобовразумительность). И не таковы бяху теплых вод источницы, какова очеса их теплыя слезы изводящая: тии бо точию телесное омыти блато можаху, сии же и душевныя очищаху пороки, и паче снега убеляху. Но что бе слезам очищати в тех, яже очистивше себе от всякия скверны плоти и духа, яко Ангели на земли ложиша? (Какое богатство мыслей истекающих одна из другой!). Аще в чием сердце от воспоминания множества грехов родится умиление и слезы: но в них, яко в чистых девах, от любве к Богу плача источник исхождаше. Идеже бо от Божественныя любве пылает, тамо не возможно водам слезным не быти. Такова есть огня того сила, яже егда аки в пещи в чием сердце возгорится, елико пламене, толико и росы умножит; елико бо где есть любве, толико и умиления. От любве раждаются слезы, и Христос егда над Лазарем плакаше, речено о нем: вижд, како любляте его. Плакахуся святыя девы в молитвах и Богомышлениях своих: любляху бо Господа своего, Его же виде ия насытитися желающе, со слезами времени того ожидаху, когда приити и узрети любимаго жениха небеснаго, каяждо от них с Давидом вещаше: Когда прииду и явлюся лицу Божию? быша слезы моя мне хлеб день и нощ. Аки бы глаголюще: о сем день и нощ слезим, яко не скоро приходит то время, в неже бы нам приити и явитися лицу сладчайшаго рачителя нашего Иисуса Христа, Его же видения сице насыщатися желаем, имже образом желает елень на источники водныя.
Сицевым житием особным егда святыя девы устраняхуся от человек, от Бога явлены быша: не может бо укрытися град верху горы стоя. Ибо исцеления недужным чудесно от них бывающая, яко велегласныя трубы по всей стране той о них возвестиша. В то время царствова Максимиян злочестивый: страною же тою обладаше Фронтон Князь, иже слышав о святых девах, повеле яти их, и привести пред себе. Агницы Христовы их-же пустынныя не вредиша звери, сии от человек зверообразных яты, и пред мучителя, приведены быша. Сташа на суд нечестивых три девицы яко три Ангели, им же бы не пред человеком, но пред самим в Троице славимым Богом стояти. Недостойни бяху очи людей грешных на святолепная лица их смотрети, яже Ангельскою красотою и благодатию Святаго Духа сияху. Удивлятеся мучитель таковой красоте их в пустыни храненой, каковыя ниже в домех царских виде когда; ибо аще и телеса их многими труды и постами бяху до конца умерщвлена, обаче лица девическия лепоты своея не погубиша, паче же обретоша ю. Идеже бо духовныя радости и веселия сердце бе исполнено, тамо не можаше увянути цвет красоты личныя, по писанному: сердцу веселящуся, лице цветет. Имать же иногда и воздержание ничто сицево, яко вместо дряхлости лепотою красит лица человеческия, яко же Даниила и с ним триех отрок, сих в посте и воздержании живущих красота превосхождаше всех отроков царских: тоже видети бе и в святых девах, яко изумеватися человеческому уму, зряще пустынныя цветы и дщери Божия красотою своею и добротою превосходящия всякую лепоту дщерей человеческих.
Вспроси же я Князь первее о именах и отечестве, они же сказаша, яко от имене Христова Христиане именуются, при крещении же имена приятия суть, Минодора, Митродора и Нимфодора, в той стране Вифиниистей от единаго отца и матере рождены. Та же простре Князь к ним речь свою, ласканием к своему злочестию их приводя и глаголя: о девы красныя! вас велицыи боги наши возлюбиша, и красотою сицевою почтоша, еще же и великими богатствы почтити вас готовы, точию вы честь им воздадите, и с нами принесите им жертву и поклонение: аз же вас пред Царем имам похвалити. И егда узрит вы Царь, возлюбит вас, и многими почтет дарами, за великих же боляр своих отдаст вы, и будете паче иных жен честны, славны и богаты. Тогда Минодора старейшая сестра, молчаливая отверзе уста своя глаголющи: Бог нас создал, и образом своим украсил, сему кланяемся, инаго же бога кроме Его ниже слышати хощем. Даров же ваших и честей тако требуем, яко же кто требует сметия ногами попираемаго: еще же и благородныя мужи от Царя твоего нам обещаеши: и кто может лучший быти паче Господа нашего Иисуса Христа, Ему же верою уневестихомся, чистотою спрягохомся, душею прилепихомся, любовию соединихомся, и Он наша есть честь и слава и богатство, и от Него не точию ты и Царь твой, но ни весь мир сей отлучити нас возможет. Митродора же рече: Кая польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою оттщетит? что бо нам есть мир сей противу любимаго жениха и Господа нашего? блато противу злата, тема противу солнца, желчь противу меда: убо мира ли ради суетнаго имамы отпасти любве Господни, и погубити души наша? да не будет! По четырех же днех Митродору и Нимфодору мучитель пред собою на суде поставив, положи при ногах их мертвое тело старейшия сестры их, и лежаше тое честное Святыя Минодоры тело наго непокровенно нимало, ниже бе на нем не уязвленнаго места, вся уды сокрушены, от ног до главы не бе целости, и бе умилен позор всем зрящим.
Все сии приведенные для примера здесь выписки из Священных писаний суть отнюдь не такие, которые бы с особливым тщанием выбраны были, но случайно взяты из немногого числа попадавшихся мне в руки книг. Между тем, есть ли мы без всякого предубеждения и предрассудка, вникнув хорошенько в язык свой, сравним их с самыми красноречивейшими иностранными сочинениями, то должны будем признаться, что оные ни общим расположением описания или повествования, ни соображением понятий, ни остротою мыслей, ни изобретением, ни украшением, ни чистотою и величавостью слога, не уступают им. Откуда ж мысль сия, что мы не имеем хороших образцов для наставления себя в искусстве слова? От малого разумения языка своего. Почему считаем мы себя толь бедными? Потому что не знаем всего своего богатства. Справедливо ли сие, что язык наш ныне токмо начинает образоваться? Весьма справедливо! Сличим еще раз вышепоказанный необразованный слог Славенский с нынешним образованным слогом, и мы тотчас сие увидим. Разогнем какую нибудь из книг, а особливо из переводов наших, ныне издаваемых которые, благодаря Французским Авторам, обучающим нас Русскому языку, почти все одинаковым складом пишутся; разогнем, говорю, какую нибудь из книг сих, мы найдем в ней:
...."Осталась у него одна только дочь. Он принял всевозможные старания о развитии ея характера, 1) и неусыпно пекся о том, чтоб ее сохранить в расположениях свойственнийших щастию. 3) Она показала, в первых еще своих летах, редкую остроту ума, живыя чувствования и легкое благоволете; 3) но однакож 4) можно было применить в ней весьма великую наклонность к огорчению от малейшей причины. Когда она достигла до юношеских лет, тогда сия чувствительность дала разсудительный оборот ея мыслям, тихость ея нравам, 5) которые придавали блеск ея красоте, и делала 6) ея 7) гораздо любезнейшею в глазах тех, которыя 8) были одарены подобными свойствами; но Сент Обер был столько благоразумен, что не мог 9) предпочесть красоту добродетели; будучи проницателен, он мог судить, сколь сия красота бывает опасна для той 10), которая обладает ею, и потому не мог радоваться этому. 11) Таким образом стал он стараться укреплять ея характер 12) и приучать ея 13) господствовать над своими наклонностями, и обуздовать свои стремления; он научил ея 14) удерживать первое движение и переность хладнокровно бесчисленные сопротивления 15) встречающиеся в жизни; но чтоб научить ее принуждать себя 16), влить в сердце ее 17) спокойное достоинство, 18), которое одно сильно преодолеть страсти и возвысить нас превыше 19) всех печальных происшествий и злосчастий, то он сам имел нужду в мужестве, и не без труда показывал вид, что его не трогают слезы, маловажные огорчения, которые причиняла иногда Эмилии предусмотрительная его прозорливость 20). Эмилия похожа была на свою мать. Она имела прекрасную ея талию 21), нежные черты ее лица; имела подобно ей глаза голубые, нежные и милые 22); но как ни были прелестны ея черты, только особенно выражения ея осанки, переменяющейся подобно предметам, коими она трогалась, придавало ея фигуре непреодолимую прелесть 23)."
1) Что такое: развивать характер? Похоже ли это на Русский язык?
2) Что такое: сохранит ее в расположениях свойственнейших щастию? Могут ли стихи древних Оракулов быть темнее сего?
3) Что такое: живые чувствования и легкое благоволение? Пустой звук слов не может быть вразумителен.
4) Что значит здесь однакож? Союз сей показывает всегда некоторое изъятие из предыдущего положения, как например: он хотя тихаго нрава и терпелив, однакож не даст себя в обиду. Здесь слова терпение и обида имеют некоторую между собою противоположность, поелику предполагается, что обида может разрушить терпение. Но живость или пылкость чувств в том и состоит, что человек склонен к радостям и огорчениям от малых причин: к чемуж здесь союз однакож?
5) Что такое: сия чувствительность дала рассудительный оборот ея мыслям? Что такое: сия чувствительность дала тихость ея нравам? Откуда научаемся мы такому чудному составлению речей, таким странным выражениям?
6) Здесь глаголы спутаны: после множественного придавали, поставлен тотчас единственный, и делала, относящийся к чувствительности, о коей прежде говорено было. Прекрасный выйдет слог, когда мы глаголы так располагать будем: чувствительность дала, нравы придавали, и делала!
7) Здесь местоимение ея поставлено не в том падеже; должно говоришь и делала ее, а не ея. Мы после из многократного впадания в сию погрешность увидим, что это не опечатка.
8) Не давно было которые: близкого и частого повторения сего местоимения надлежит избегать, да притом же здесь надлежало сказать которыя, поелику говорится о женщинах, а не о мужчинах.
9) Глагол не мог поставлен здесь весьма некстати; ибо кто чего не делает по невозможности, а не по доброй воли, тому и благоразумия приписывать не должно.
10) Здесь местоимение той означает женщину, но может относиться к красоте; ибо сказано: сия красота опасна бывает для той (красоты). Подобного двумыслия в хорошем слоге надлежит избегать.
11) И потому не мог радоваться этому, есть весьма грубой и слуху противной слог.
12) Укреплять характер, есть нелепица.
13) Здесь вторично местоимение ея поставлено не в том падеже: приучать ее, а не ея.
14) Таж самая погрешность в третий раз.
15) Безчисленныя сопротивления. Оба сии слова здесь не у места, и потому больше служат к затмению, нежели к ясному выражению мысли. Слово сопротивление не значит противность, или противный и неприязненный случай, но значит борьбу нашу с сими случаями, и следственно глагол переносить не приличествует оному; ибо переносить противности можно, а переносить сопротивления есть тоже самое, что сопротивляться сопротивлениям. Слово же бесчисленныя отнимает вероятность у слов переносить хладнокровно. Дабы сделать мысль сию правдоподобною и ясною, надлежало бы сказать: и переносить хладнокровно встречающияся в жизни противности, не обременяя понятия нашего неимоверным словом бесчисленныя. Даже и в сих словах: переносить хладнокровно, заключается уже нечто не естественное, и для того гораздо ближе к нашим чувствам: переносить терпеливо. Сколько писателю рассуждать должно, когда он желает, чтоб писание его не было вздорное!
16) Принуждать себя, есть весьма слабое и не ясное выражение; настоящее слово: владеть собою.
17) Здесь в четвертый раз местоимение ее поставлено не в том падеже: влить в сердце ея, а не ее.
18) Влить в сердце спокойное достоинство, есть один пустой звук слов, без всякой мысли.
19) Возвыситься превыше. Вознестись превыше, можно сказать; но возввситься пребыше, отдалиться далее, приближиться ближе, подобные сему выражения не составляют красоты слога.
20) Предусмотрительная прозорливость есть такое же выражение, как: высокая высота, зримая видимость и проч.
21) Талия. Талии бывают также и у Русских женщин, а потому кажется и названию сему надлежало бы также быть и в Русском языке.
22) Можно сказать: прекрасные, черные, голубые глаза. Можно также сказать: милые глазки, милой ротик; но весьма не хорошо: милые нежные глаза! милой нежной рот!
23) Выражение осанки, переменяющейся подобно предметам, коими она трогалась придавала фигуре ея непреодолимую прелесть!!! После таковой ясности смысла и красоты слога не остается нам ничего, как токмо удивляться, в какое краткое время и какие великие успехи, учась у Французов, сделали мы в Российском языке!
В краткой выписке сей, содержащей в себе не более двух страниц, находим им такое великое число несвойственностей, погрешностей, нескладиц и нелепостей: сколькож найдем мы их во всей книге? Может быть в возражение скажут мне, что я выбрал самое худое место и самый слабый перевод, по которому не должно заключать вообще о всех переводах. Я и не говорю обо всех, однакож смело отвечаю, кто из десяти девять таковых, в которых подобный сему бред выдается за красоту слога. Разогните нынешние наши книги, вы увидите, что главная часть писателей наших щеголяют сим тарабарским языком, и называют его новым, вычищенным, утонченным! Книги сии печатываются, умножаются, никто не оговаривает их, слог их похваляется; молодые люди, мало упражнявшиеся в языке своем, читая их приучают ум свой к ложным понятиям, к худому складу, к невразумительным выражениям; зло сие возрастает, распространяется, делается общим. Оное по свойству нашему наклонному к подражанию, по привычке, делающей всякую странную вещь не странною, так прилипчиво, так неприметно вкрадывается в нас, что те самые люди, которые видят его и воют против него, не чувствуют, что они сами им заражены. Желаете ли пред глазами своими иметь тому пример? Прочитайте следующее о нынешнем воспитании нашем рассуждение:
"Есть ли бы перестали у нас воспитывать детей не справясь с их склонностями и дарованиями, есть ли бы перестали родители избирать им состояние без цели и предназначений, то можно надеяться, что следующее поколение произрастило бы лучших людей на сцене гражданского мира! Рассмотрите физически и морально всякое юное существо вступающее в учение; определите ему с первой буквы его состояние, его место в обществе, займите его всеми познаниями, всеми опытами, касающимися единственно до его предмета; усовершенствуйте его в одной части, сделайте из него доброго гражданина, или ученого, или судию, или воина, или пресвитера, или купца, или земледельца; удалите от него попугаев иностранных, всю эту диалектику чужеземную; оставьте непростительное, грубое заблуждение, чтобы ломать язык их в молодости для приятого выговора чужого и большею частию для моды, не давши глубокого понятия о своем; научите их подражать иностранцам, которые весьма худо изъясняются и нашим языком, и другими, пренебрегая сию маловажную часть воспитания: однакож не меньше того нас учат, просвещают; уверьте, что можно не краснея весьма худо говоришь иностранным языком и быть весьма полезным членом общества; твердите им, что не ум богат языком, а язык умом. Переуверьте их в обольщающей химере, что будто в чтении одних иностранных книг можно только почерпать высокие, новые идеи; они рождаются от наблюдений, соображения, размышлений — и в свое время. Раскройте пред глазами воспитанников ваших свою веру, свою историю, свои законы, свое домашнее устройство, пользы Государства, торговлю, промыслы, художества, науки; твердите им непрестанно, что они должны быть прежде всего члены своего отечества, слуги своего Государя, и потом уже граждане мира! Напоминайте им о любви к нему, о своих обязанностях, о добродетелях замеченных ими в своих отчизнах, и вы увидите, как приметно, как скоро переменится сей хаос воспитания нашего в истинный свет просвещения, в лучшую, соответственнейшую систему для нашего народа; вы увидите, как отличительно родятся характеры, даровании, творческие умы; как воскреснут твердые великие души, пробудятся порывистые желания патриотизма и из разнеженных голов Сенских питомцев, родятся величины Русских, но истинные Русские, добрые граждане, сыны своего отечества!"
Тот-же сочинитель в примечании своем между прочим говорит: мы начинаем забывать Русской язык более и более: куда вы хотите явиться с Русским языком? В хорошем обществе, в круге людей так называемых (лучшего сорту) de bon tom, там говорят по Французски. В школе? Там изъясняют уроки по Французски. В домах? Там коверкают свой язык и мешают его с Французским. Где же говорят по Русски? на площади, на бирже, по деревням — и кто?... Это неутешимо! Пора бы нам иметь больше народной гордости и не унижать достоинства своего языка пред целым светом! Все знают, как тонок, обилен, сладок, живописателен Русской язык: для него бы не стараться довести его до возможного совершенства? Для чего такой могущественной Империи не заставить иностранцев столько же подвигнуться к нам, сколько мы к ним*? Для чего не заниматься им нашим языком в посольствах, сношениях политических — для чего не употреблять его при дворе? Там, где стечение утонченных мыслей; там, где вежливость, искусство обращения доведены до такой высокой степени? Там то надобно образовать первоначальный вкус к своему наречию, там начать воспитывать Русской язык**: тогда разольется он нечувствительно в обществе, заставят гораздо с большею охотою всякого письменного человека заниматься его красотою; тогда будут по крайней мер писать с надеждою, что книги Русские и читать и понимать станут,"
______________________
* Этот вопрос легко сделан, но трудно его решить: сперва растолкуем, что значит подвигнуться к нам? То ли, чтоб они, в своей земле обучались так вашему языку, как мы их? Но чем же такая могущественная Империя заставит их подвигнуться к сему? Силою оружия, или силою красноречия? Первое было бы и жалко и смешно: воевать с чужим народом для того, чтоб принудить его обучаться нашему языку! От второго мы весьма далеки: надобно сперва снять с себя их цепи, к потом уже наложишь на них свои.
** Воспитывать язык? — Давно ли сочинитель говорил, что язык наш тонок, обилен, сладок, живописателен? Как же теперь велит его воспитывать? Да сверх того это дитя уже и не так молодо, чтоб слово воспитание было ему прилично.
______________________
Главное основание рассуждения сего весьма справедливо: оно открывает нам глаза, оно дает нам чувствовать ослепление наше; но как же можно тому, кто с такою истинною укоряет нас, что мы начинаем забывать Русский язык более и более, и с таким благонамерением советует нам удалить всю чужеземную диалектику и прилагать старание о глубоком познании природного языка своего, как возможно, говорю, тому самому писателю, которой с толиким жаром вопиет против сего, не чувствовать, что он сам последует сей диалектик и собственным примером своим разрушает благий совет свой? Ибо чтож, как не чужеземную диалектику, значат они и подобные сему, рассеянные повсюду в той же самой книге его, выражения; Жени рассматривал природу (иной подумает, что это Жан или Иван рассматривал природу: совсем не то!) и стараясь потрафить подлинник украсил список (это очень ясно!) — Примечательные умы рассматривали Жени со всех сторон и раскрыли чрез анализ тайны его чудес (это прямо по Русски)! улучшенная природа, в воображении, во вкус и в ощущении всего изящнаго (хорошо)! — Важность носящая отпечаток мужественного характера (нельзя лучше!) Он не был еще злодеем по привычке, по по систем был уже таков. — Часто покушалась она закрасит чем нибудь (для чего не замазать!) свое положение. — Набросим тень на сии преступныя восторги, и пр. и пр. и пр.? Набросим и мы тень на сей странной слог и подивимся, что находим его в таком сочинении, которое толкует нам о классических стихотворениях и о Российской Словесности, и которое называя язык наш вместе и вновь рождающимся и бедным, и богатым и живописательным, и укоряя нас, что везде в обществах и в домах наших коверкают его мешая с французским языком, само себя тем же самым укоризнам подвергает.
В некоторой книжке случилось мне прочитать следующий вопрос: отчего в России мало авторских талантов? Сочинитель, рассуждая о сем, между прочим говорит:
Хотя талант есть вдохновение природы, однако ж ему должно развиться и созреть в постоянных упражнениях. Автору надобно иметь не только собственно так называемое дарование. — То есть какую-то особенную деятельность душевных способностей. — Но и многие исторические сведения, ум, образованный логикою, тонкий вкус и знание света. Сколько время поребно единственно на то, чтобы совершенно овладеть духом языка своего? Волтер сказал справедливо, что в шесть лет можно выучиться всем главным языкам, но что во всю жизнь надобно учиться своему природному. (А мы, во всю жизнь учась чужому и не заглядывая в свой, хотим быть писателями!) Нам, русским, еще более труда, нежели другим. Француз, прочитав Монтаня, Паскаля, пять или шесть авторов века Лудовика XIV, Волтера, Руссо, Томаса, Мармонтеля, может совершенно узнать язык во всех формах (во всех формах? — Пусть так!); но мы, прочитав множество церковных и светских книг, соберем только материальное или словесное богатство языка, которое ожидает души и красок от художника. (На сие мнение не во всем согласиться можно: мне кажется, ежели француз, прочитав Монтаня, Паскаля, Волтера, может совершенно узнать язык свой, то и мы, прочитав множество церковных и светских книг, то ж самое узнать можем; ибо если нынешние французы учатся у Монтаней, Паскалей, Волтеров, то и Монтани, Паскали, Волтеры у кого-нибудь так же учились. Писатели по различным дарованиям и склонностям своим избирают себе род писания, иной трубу, другой свирель; но без знания языка никто ни в каком роде словесности не прославится. Писателю надлежит необходимо соединить в себе природное дарование и глубокое знание языка своего: первое снабдевает его изобилием и выбором мыслей, второе изобилием и выбором слов. Писать без дарования — будет Тредьяковский*; писать без знания языка — будет нынешний писатель. Конечно, без разума, утвержденного науками, хотя бы кто и все церковные и светские книги прочитал, он приучил бы токмо слух свой к простому звуку слов, нимало не обогащающему рассудок наш, и, следовательно, не собрал бы никакого ни умственного, ни словесного богатства. Но тот, кто, имея острый ум, прочитает их с рассуждением и приобретет из них познание в краткости, силе и красоте слога, то почему же сей не сделается тем художником, который всему изображаемому им дает душу и краски? Я думаю совсем напротив: французы не могли из духовных книг своих столько заимствовать, сколько мы из своих можем: слог в них величествен, краток, силен, богат; сравните их с французскими духовными писаниями, и вы тотчас сие увидите. Надлежит токмо отрясть от себя мрак предрассудка и не лениться черпать из сего неистощаемого источника). Истинных писателей было еще у нас так мало, что они не успели дать нам образцов во многих родах; не успели обогатить слов тонкими идеями; не показали, как надобно выражать приятно некоторые, даже обыкновенные мысли. (Превосходных писателей в разных родах, конечно, было у нас мало; но светских, а не духовных; и первых мало оттого, что не читают они последних. Я не говорю, чтоб могли мы из духовных книг почерпнуть все роды светских писаний; но кто при остроте ума и природных дарованиях в языке своем и красноречии силен будет, тот по всякому пути, какой токмо изберет себе, пойдет достолепно. Есть у нас много великих образцов, но мы не знаем их и потому не умеем подражать им. Между тем и в светских писателях имеем мы довольно примеров: лирика, равного Ломоносову, конечно, нет во Франции: Мальгерб и Руссо их далеко уступают ему; откуду же брал он образцы и примеры? Природа одарила его разумом, науки распространили его понятия, но кто снабдил его силою слова? Если бы Сумароков познанием языка своего обогатил себя столько же, как Ломоносов, он бы, может быть, при остроте ума своего, в сатирических сочинениях не уступил Буалу, в трагических Расину, так как в притчах своих не уступает де ла Фонтеню**. Вольно нам на чужих, даже и посредственных, писателей смотреть завидными глазами, а своих и хороших презирать. Что ж принадлежит до сего мнения, что авторы наши не успели обогатить слов новыми идеями, то разве говорится сие о прежних авторах, а нынешние весьма в том успели! Из великого множества приведенных в сем сочинении выше и ниже сего примеров ясно видеть можно, какую приятность и какое приращение получил язык наш!)
______________________
*Я разумею о стихотворстве Тредьяковского; что ж принадлежит до исторических переводов его и писаний в прозе, оные отнюдь не должны почитаться наравне с его стихами.
** Притчи и Эклоги всего более украшаются простотой слога и выражений; но прочие сочинения требуют возвышенных мыслей. Сумароков родился быть стихотворцем, но природное дарование его не подкреплено было прилежным упражнением в языке своем и глубоким знанием оного. В трагедии его Гамлете раскаивающийся в злодеяниях своих Клавдий пал на колени, говорит:
Се Боже, пред Тобой сей мерзкий человек,
Который срамотой одной наполнил век,
Поборник истины, бесстыдных дел рачитель,
Враг Твой, враг ближнего, убийца и мучитель!
В новейших изданиях слово поборник переменено и вместо оного поставлено рушитель истинны; однакож Сумароков действительно употребил слово поборник! принимая оное в смысле противоборника. В той же трагедии его уличенная сыном своим в убийстве первого мужа своего и пришедшая в раскаяние Гертруда говорит второму супругу своему:
Вы все свидетели моих безбожных дел,
Того противна дня, как ты на трон возшел,
Тех пагубных минут, как честь я потеряла,
И на супружню смерть не тронута взирала: (и проч.)
Ломоносов похуляя сей последний стих, и доказывая, что в нем совсем не тот смысл заключается, в каком сочинитель его употребил, написал следующие стихи:
Женился Стил, старик без мочи,
На Стелле, что в пятнадцать лет,
И не дождавшись первой ночи.
Закашлявшись оставил свет;
Тут Стелла бедная вздыхала,
Что на супружню смерть не тронута взирала.
Из сего довольно явствует, сколь много знание языка предохраняет писателя от погрешностей и несвойстенных выражений, в которые он без того, при всем своем остроумии и даровании, не редко впадать будет. Впрочем, хотя из многих мест можно бы было показать, что Сумароков не довольно упражнялся в чтении Славенских книг, и потому не мог быть силен в языке, однакож он при всех своих недостатках есть один из превосходнейших стихотворцев и трагиков, каковых и во Франции не много было. Есть ли не находим мы в нем примерной чистоты, великолепия и богатства языка; то по крайней мере во многих местах чувствуем сладость оного, не смотря на нынешних писателей, которые говорят: Семира его изрядна, также Вышеслав, Хорев, Синав и Трувор, Гамлет и проч.; но теперь уже выходят они из моды и колорис их отделки тускнеет: так то мало мог он устоять противу времени и вкуса! — Преглавные мы будем знатоки и писатели, когда о трагедиях рассуждать станем по моде, как о пряжках и башмаках! Ваши отделки и колорисы при свете здравого рассудка исчезнут, но Сумароков будет всегда Сумароков. В самых величайших сочинителях и стихотворцах примечаются иногда недостатки: Корнелий, высокопарный Корнелий, отец Француской трагедии, преисполнен ими. Итак неблагоразумен тот, кто в знаменитом писателе заметя две или три погрешности, станет для оных все прочие красоты его пренебрегать. Талант часто и в самой погрешности не престает быть талантом: у Ломоносова в трагедии прекрасная Татарская Царевна влюбляется с башни в разъезжающего по полям рыцаря, и открывает страсть свою наперснице своей сими словами:
Настал ужасный день, и солнце на восходе
Кровавы пропустив сквозь пар густой лучи,
Дает печальный знак к военной непогоде;
Любезна тишина минула в сей ночи.
Отец мой воинству готовится к отпору,
И на стенах стоять уже вчера велел.
Селим полки свои возвел на ближню гору,
Что б прямо устремить на город тучу стрел.
На гору, как орел, всходя он возносился,
Которой с высоты на агнца хочет пасть;
И быстрый конь под ним как бурной вихрь крутился:
Селимово казал проворство тем и власть.
Он ездил по полкам (и проч.)
Стихи сии гладки, чисты, громки; но свойственны ли и приличны ли они устам любовницы? Слыша ее звучащу таким величавым слогом, не паче ли она воображается нам Гомером или Демосфеном, нежели младою, страстною Царевною? В другом месте, в той же самой трагедии его Мамае, Селим говорит сей же самой любовнице своей Тамире:
Дражайшая, какой свирепости возможно
Тебе малейшую противность учинить?
Какое сердце есть на свете толь безбожно,
Которое тебя дерзает оскорбить?
Тебя, пред коею жар бранный погасает
И падают из рук и копья и щиты,
Геройских мыслей бег насильный утихает
Удержан силою толикой красоты!
И в другом месте несколько пониже, где Селим убеждает Тамиру оставить отца своего и ехать с ним в его землю:
Последуй мне в луга Багдатские прекрасны,
Где в сретенье тебе Евфрат прольет себя,
Где вешние всегда господствуют дни ясны,
Приятность воздуха достойная тебя,
Царицу восприять великую стекаясь,
Богинею почтит чудящийся народ,
И красоте твоей родитель удивляясь,
Превыше всех торжеств поставить твой приход.
Есть ли бы сии прекрасные стихи вложены были в уста посланника Селимова, которой бы отравлен от него был с тем, чтоб прельстить Царевну красноречивым изображением приятностей мест и почестей, ожидающих ее в той стране, куда ее приглашают; тогда бы помещены они были приличным образом. Но когда сам Селим, улуча на краткое время случай увидеться с своею любовницею, вместо простого, смутного, торопливого излияния страстных чувств своих, вещает ей толь отборными словами и мыслями, каковы суть сии:
Тебя, пред коего жар бранный погасает
И падают из рук и копья и мечи.
Или:
Что сретенье тебе Евфрат прольет себя (и проч.)
То хотя и вижу я здесь много ума и красноречия; однако не вижу ни любви, ни сердца, ни чувств. Напротив того, когда Трувор убеждая Ильмену уйти с ним, говорит ей:
Коль любишь ты меня, расстанься с сей страной,
И из величества, куда восходишь ныне,
Отважся ты со мной жить в бедности, в пустыне,
С презренным, с выгнанным, с оставленным от всех;
Покинь с желанием надежду всех утех,
Которы пышностью Князей увеселяют,
И честолюбие богатых умножают;
Довольстуйся со мной пустынным житием,
И будь участница в нещастии моем,
Которо, коль ты мне вручишь красу и младость,
Мне в несказанную преобратится радость.
Или когда Хорев Оснельде своей, укоряющей его жестокосердием за то, что он идет с отцом ее сражаться, ответствует:
Когда я в бедственных лютейша дня часах
Кажуся тигром быть в возлюбленных очах,
Так ведай, что во град меня с кровава бою
Внесут, и мертвого положат пред тобою:
Не извлеку меча, хотя иду на брань,
И разделю живот тебе и долгу в дань.
Тогда, читая сии стихи, сердце мое наполняется состраданием и жалостью к состоянию сего любовника. Я не научаюсь у него ни громкости слога, ни высокости мыслей; но научась любишь и чувствовать. Следует ли из сего заключить, что ни Ломоносов ни Сумароков, ни другие многие писатели наши не могут нам служить образцами? Отнюдь нет! Надлежит токмо читать их с рассуждением, без всякого к ним пристрастия и ненависти, без всякого предубеждения к иностранным писателям, и без всякого притом самолюбия, или высокого о себе мнения; ибо сия последняя страсть часто сбивает нас с прямой дороги. Мы часто слышим крикунов и Зоилов; но редко таких, которые, не кричат, а рассуждают и доказывают. Знающий Зоил с невеждою Зоилом различествуют в том, что первый выслушивает доказательства, и когда найдет оные сильнейшими своих; то соглашается с тем, кто прошив него спорит, и переменяет свое мнение; а другой не переменит онаго ни за что, и говорит как Скотинин: у меня, слышь ты, что вошло в мою голову, по в ней и засело. Когда я с разсуждением буду читать прежних писателей наших, таковых как Феофан, Кантемир, Ломоносов, Сумароков, Поповский, Казицкий, Полетика, Майков, Петров, Крашенинников, и многих нынешних, украшающих стихотворение и словесность нашу: то по нему, имея дарование, не найду я в них достаточной для ума моего пищи? А есть ли я не имею в себе дарований той пчелы, которая, как говорит Сумароков: посещая благоуханну розу, берет в свои соты частицы и с навозу; то никакие славно сочинители не научат меня писать. Многие ныне, рассуждая о сочинениях, кричат: эта Сатира скаредна, стихи в ней негладки; это слово никуда негодится, оно написано по Славенски! Да разве не может быть в негладких стихах богатого, и в гладких скудного смысла? Почто худое с хорошим сливать без различия? Разве нельзя по Славенски написать хорошо, и по русски худо? Также по русски хорошо, и по Славенски худо? Какая нужда мне до слога, по Славенски ли, по Малороссийски ли, по Руски ли кто пишет? Лишь бы не имел он юродивого смешения, лишь бы ясен был связью речей, краток выражениями, изобилен разумом, и приличен роду писания; то есть, не написал бы кто Комедию Славенским, а поэму простонародным Русским языком. На что мне последовать худой прозе, иди худым стихам Сумарокова; но для чего мне там не перенимать у него, где он как весна цветут, как роза нежен? В рассуждении же различения нелепостей от красот надлежит быть весьма осторожну, и отнюдь не полагаться на суд других, доколе собственным своим рассудком не утвердится в том. Например: ежели бы кто мне сказал: посмотри, как в Синаве и Труворе четвертое явление первого действия без размышления написано, и стал бы доказывать то следующим образом:
Трувор оставшись наедине с Ильменою, и зная уже, что она вступает в брак с братом его Синавом, вопрошает ее с беспокойством:
Трув: ...........Так ты уж предприяла
Его супругой быть?
Ильм: Хотя и не желала
Трув: О коль несчастливый мой брат днесь счастлив стал?
Ильм: Ты щастием его напасть мою назвал:
По повелению ему супругой буду;
Но в одр.......
Здесь видя по неволе вырывающееся из груди своей признание любви, прерывает она речь свою. По сие время весьма хорошо. Встревоженные сердца их не имеют времени таить долее свой пламень. Они открываются во взаимной страсти своей, и разговор их продолжается:
Трув: О время! о судьбы! За что вы нам толь строги!
Удобно ль будет мне толику скорбь терпеть,
Как буду я тебя чужой супругой зреть,
Красу твою чужим желаниям врученну,
И сердца моего утеху похищенну!
Ильм: Я с именем умру любовницы твоей,
И девой сниду в гроб, не чувствуй муки сей.
Трув: Ты брату моему хотела быть женою.
Ильм: Не обвиняй меня невольною виною,
И дай исполнишь мне родительский приказ:
Ах! есть ли в свете кто несчастливее нас!
Здесь все ясно сказано: Трувор знает, что Ильмена любит его, что она выходит замуж за брата его по повелению отца своего, и что хочет не изменяя ему умереть. Посмотрим теперь продолжение их разговора?
Трув: Твой дух не так как мой сим браком будет мучен,
А я пребуду в век на свете злополучен,
Хотя мой век напасть и скоро сократит,
Когда она меня с тобою разлучит:
И как меня, увы! пожрет земли утроба,
Приди когда нибудь ко мне на место гроба,
И есть ли буду жить я в памяти твоей,
Хоть малу жертву дай во тьме душе моей:
И вспомянув разрыв союза между нами,
Оплачь мою злу часть, омой мой гроб слезами.
Ильм: Владычествуй собой, печали умерли,
А жертвы от меня иныя ожидая.
Не слезы буду лить я жертвуя любови:
Когда тебя лишусь, польются токи крови.
Здесь Ильмена повторяет тоже самое, что она и прежде сказала, то есть: что она умрет прежде, нежели ему изменит. Чем же можно извинить простоту сего ответа его:
Я не могу никак понять твоих речей?
когда Ильмена еще с большею ясностью скажет ему:
Поймешь, когда моих померкнет свет очей;
тогда он с тоюже, как и прежде, но здесь еще более непростительною тупостию ума, паки повторяет ей:
Мне мысль твоя темна, как я ни рассуждаю,
Видя таковое непонятие его и недогадливость,
Ильмена имела все право сказать, скончаем разговор и проч. Есть ли бы, говорю, кто таким образом доказал мне, я бы не мог его оспорить и должен бы был согласиться с ним; но ежели бы кто о той же трагедии сказал мне (как я то и слыхал от многих), что следующие, произнесенные Гостомыслом в то время, как дочь его закололась пред ним, стихи, весьма неестественны:
Возьми от глаз моих сие бездушно тело.
Чье сердце как мое толико бед терпело!
То бы я не скоро согласился, ибо надлежит рассмотреть сперва Гостомыслову твердость и любомудрие, наипаче изображенные в монологе, начинающемся сим стихом:
Наполнен наш живот премножеством сует; також припомнить и сии выше того в разговоре с дочерью своею, сказанные им слова:
А как закроешь ты глаза свои сном вечным,
Могу ли я тогда быть столь бесчеловечным,
Чтоб не встревожил рок сей крепости моей,
И не дал слабости тому в кончине дней,
Кто малодушия поныне жил не зная,
И сына погребал очей не омочая?
Когда из глаз моих шок слезный потечет,
Что видя плачуща народ о мне речет?
Коль слуху моему сей голос будет злобен:
Се твердый Гостомысл нам в немощах подобен!
Хотяж сей слабости я в сердце не пущу;
Но дух, тебя лишась, колико возмущу!
Привыкнув видеть в нем сию стоическую твердость, могу ли я ожидать, чтоб сей великий муж, при каком бы то ни было несчастии, возопил: ах! увы! горе. мне! Правда твердость его была бы некое не естественное жестокосердие, есть ли бы он произнес один сей стих
Возьми от глаз моих сие бездушно тело;
Но между тем, как сей стих являет в Гостомысле необычайную твердость духа, другой:
Чье сердце как мое толико бед терпело!
Показывает в нем чувствительного и больше, нежели плачущего отца. Итак в сих двух стихах нахожу я искусное соединение двух противных между собою свойств, и следовательно мысль не хулы, но всякой похвалы достойную. Сумароков в новейших изданиях трагедий своих, сии два стиха совсем выпустил; однако на сие не надлежит смотреть; ибо он многие сочинения свои, гоняясь за богатыми рифмами, поправляя испортил.
______________________
Русский Кандидат авторства (вот и доказательство тому!), недовольный книгами, должен закрыть их и слушать вокруг себя разговоры, чтобы совершеннее узнать язык. (Этот способ узнавать язык всех легче.) Тут новая беда: в лучших домах говорят у нас по-французски! (Стыдно и жаль, да пособить нечем. Река течет, и все, что в ней, плывет с нею. А виноваты писатели: Молиер многие безрассудные во Франции обычаи умел сделать смешными!) Милые дамы, которых надлежало бы только подслушать, чтобы украсить Роман или Комедию любезными, щастливыми выражениями, пленяют нас нерусскими фразами. (Милые дамы, или, по нашему грубому языку, женщины, барыни, барышни, редко бывают сочинительницами, и так пусть их говорят, как хотят. А вот несносно, когда господа писатели дерут уши наши не русскими фразами!) Что ж остается делать Автору? (Учиться русской, а не французской грамоте.) Выдумывать, сочинять выражения? (Кто без прилежного в языке своем упражнения станет выдумывать, сочинять выражения, тот похож будет на того, который говорит во сне.) Угадывать лучший выбор слов? (Надлежит о словах рассуждать и основываться на коренном и утвержденном знаменовании оных, а не угадывать их; ибо если писатель сам угадывать будет слова и заставит читателя угадывать их, то и родится из сего нынешний невразумительный образ писания.) Давать старым некоторый новый смысл? (Прочитайте приложенный ниже сего опыт Словаря, и вы увидите, что мы знаменования многих коренных слов не знаем, и когда мы, не знав настоящего знаменования их, станем давать им новые смыслы, заимствуя оные от французских слов, то не выйдет ли из сего, как я в начале сего сочинения <с> помощию кругов толковал, что мы часть Е своего круга истреблять, а часть D своего круга распространять и умножать будем. Таковыми средствами достигнем ли мы до того, чтоб быть хорошими писателями? Напротив, доведем язык свой до совершенного упадка. Истина сия не подвержена ни малейшему сомнению, что чем более будем мы думать о французском языке, тем меньше будем знать свой собственный.) Предлагать их в новой связи, но столь искусно, чтобы обмануть читателей и скрыть от них необыкновенность выражений. (Здесь я в пень стал! Совсем не понимаю, в чем состоит сие искусство обманывать читателей и какая нужда предлагать выражения в новой связи? Великие писатели изобретают, украшают, обогащают язык новыми понятиями; но предлагать выражения в новой связи не иное что значить может, как располагать речи наши по свойству и складу чужого языка, думая, что в этом состоит новость, приятность, обогащение. Если мы так рассуждать будем, то почто ж жалуемся, что везде у нас говорят по-французски? Лучше говорить по-французски, нежели русским языком по-французски писать.) Мудрено ли, что сочинители некоторых русских комедий и романов не победили сей великой трудности (какой трудности, той, что писать новою никому не понятною связью и сделать, чтоб ее все понимали? Подлинно это великая трудность и достойная того, чтоб потеть над нею! Славный Дон Кишот не боролся ли с ветряными мельницами, желая победить их?), и что светские дамы не имеют терпения слушать или читать их, находя, что так не говорят люди со вкусом? Если спросите у них: как же говорить-должно? То всякая из них отвечает: не знаю; но это грубо, несносно! (Не спрашивайте ни у светских дам, ни у монахинь, и зачем у них спрашивать, когда оне говорят: не знаю?) — Одним словом, французский язык весь в книгах, со всеми красотами и тенями, как в живописных картинах, а русский только отчасти? (Источник русского языка также в книгах, которых мы не читаем, и хотим, чтоб он был не в наших французских книгах.) Французы пишут как говорят, а русские обо многих предметах должны еще говорить так, как напишет человек с талантом. (Расинов язык не тот, которым все говорят, иначе всякий бы был Расин. Ломоносова языком никому говорить не стыдно. Бедные русские! Они должны молчать до тех пор, покуда родится человек с талантом, который напишет, как им говорить должно!) Бюффон странным образом изъясняет свойство великого таланта, или Гения, говоря, что он есть терпение в превосходной степени. Но если хорошенько подумаем, то едва ли не согласимся с ним; по крайней мере без редкого терпения Гений не может воссиять во всей своей лучезарности. Работа есть условие искусства (пропустим, чего не разумеем); охота и возможность преодолевать трудности есть характер таланта (пропустим и это). Бюффон и Ж.Ж. Руссо пленяют нас сильным и живописным слогом: мы знаем от них самих, что им стоила пальма красноречия! Теперь спрашиваю: кому у нас сражаться с великою трудностию быть хорошим автором, если и самое счастливейшее дарование имеет на себе жесткую кору, стираемую единственно постоянною работою? Кому у нас десять, двадцать лет рыться в книгах, быть наблюдателем, всегдашним учеником, писать и бросать в огонь написанное, чтобы из пепла родилось что-нибудь лучшее? (Что до этой трудности принадлежит, то оная, конечно, велика, и когда мы к сей великой трудности прибавим еще великую легкость переводить с чужого языка слова и речи, не зная своего, тогда и доберемся до истинной причины, отчего у нас так мало авторских талантов и так много худых писателей, которые портят и безобразят язык свой, не чувствуя того и приемля нелепости за красоту.) В России более других учатся дворяне; но долго ли? До пятнадцати лет: тут время идти в службу, время искать чинов, сего вернейшего способа быть предметом уважения. Мы начинаем только любить чтение (полно, не перестаем ли?). Имя хорошего Автора еще не имеет у нас такой цены, как в других землях; надобно при случае объявить другое право на улыбку вежливости и ласки. К тому же искание чинов не мешает балам, ужинам, праздникам; а жизнь авторская любит частое уединение. — Молодые люди среднего состояния, которые учатся, также спешат выйти из Школы или Университета, чтобы в гражданской или военной службе получить награду за их успехи в науках; а те немногие, которые остаются в ученом состоянии, редко имеют случай узнать свет. — Без чего трудно писателю образовать вкус свой, как бы он учен ни был. Все французские писатели, служащие образцом тонкости и приятности в слоге, переправляли, так сказать, школьную свою риторику в свете, наблюдая, что ему нравится и почему? (Французские писатели познавали и исправляли погрешности свои от суждения об них других писателей; Волтер судил Корнелия и Расина, Лагарп рассматривал Волтера. И так далее. Всякий из них один на другого делал свои замечания, доказывал, что в нем худо и что хорошо, разбирал каждый стих его, каждую речь, каждое слово. Сверх сего многие и самые лучшие писатели поправляли сами себя, и в новых изданиях их все сии перемены напечатаны, так что читатель, с великою для себя пользою, может сличать старую и новую мысль сочинителя. Отсюду рождался общий свет для всех, язык получал определение и чистоту, словесность процветала. Но мы где рассуждали о сочинениях своих? Мы только твердим о Бонетах, Томсонах, Жан-Жаках, а про своих не говорим ни слова, и если когда начнем судить об них, то отнюдь не с тем, чтоб подробным рассматриванием слога и выражений их принесть пользу словесности; но чтоб просто, без всяких Доказательств, побранить писателя или чтоб показать похвальное достоинство свое, заключающееся в презрении к языку своему.) Правда, что он, будучи школою для авторов, может быть и гробом дарования: дает вкус, но отнимает трудолюбие, необходимое для великих и надежных успехов. Счастлив, кто, слушая сирен, перенимает их волшебные мелодии, поможет удалиться, когда захочет! Иначе мы останемся при одних куплетах и мадригалах. Надобно заглядывать в общество — непременно, по крайней мере в некоторые лета, но жить в кабинете. (Все сие отчасти может быть справедливо, но я не полагаю сего главным препятствием прозябению талантов. Если бы дворяне наши, хотя и до пятнадцати лет, но учились более русской, нежели французской грамоте, и если бы в сие время положено в них было достаточное к познанию языка своего основание, тогда служба не мешала бы им обогащаться дальнейшими в том приобретениями, получа охоту и знание, нашли бы они время, когда обращаться с женщинами в обществе и когда дома сидеть за книгами. Имя хорошего писателя сделалось бы у нас в таком же уважении, как и у других народов. Но когда мы от самой колыбели своей вместе с молоком сосем в себя любовь к французскому и презрение к своему языку, то каких можем ожидать талантов, какого процветания словесности, каких редких произведений ума? Кто в подлипну захочет двадцать лет рыться в книгах, писать и бросать в огонь свои сочинения, доколе не почувствует их достойными издания в свет, когда ясно видит, что попечение его будет тщетно; что и читателей таких мало, которые бы двадцатилетний труд его могли распознавать с единолетним; и что к совершенному упадку прекрасного языка нашего отчасу более распространяется зараза называть некую чуждую и несвойственную нам нескладицу приятностию слога и элегансом?)
Для дальнейшего показания, что мы, с одной стороны, язык свой забываем, а с другой — всякими вводимыми в него неприличными новостями искажаем его, или, иначе сказать, круг знаменования коренных российских слов стесняем, а новопринятых, не определенных, не содержащих в себе никакого смысла, противу свойств языка своего распространить стараемся, рассудилось мне, читая нынешние и старинные книги, выписывать из них все те слова и речи, которые заключают в себе нечто особливое и достойны некоторого примечания. В первой выписке, сделанной мною из новейших книг, выбирал я токмо такие выражения, которые языку нашему совсем несвойственны, и старался примечаниями моими доказать неприличность оных, не входя в рассуждение (или входя очень мало) и не выписывая таких мест, кои показывают слабость или нечистоту слога, могущую происходить от неискусства в красноречии, хотя, впрочем, сочинитель и нимало не гоняется за чужестранными словами и складом; ибо сии последние замечания могли бы меня весьма далеко завести. Я не означал также ни заглавия книг, ни мест, в коих сии нелепые выражения мне попадались, поелику намерение мое не есть лично кому-нибудь досаждать; но токмо для общей пользы словесности, начинающим упражняться в оной, дать приметить, сколь сии вводимые в прекрасный наш язык новости суть безобразны. Впрочем, да не подумает читатель, что я в приложенных выше и ниже сего примерах некоторые, для вящего показания странности их, от себя составил; нет! Я могу удостоверить его, что все оные выбраны из печатных книг.
Вторая выписка сделана мною из книг церковных. В одной выбирал я такие слова, из которых иные в новейших нынешних писаниях мало или совсем неизвестны, а другие хотя и употребляются, но не во всех тех смыслах, в каких употреблялись прежде, и потому круг знаменования их, к ущербу богатства языка, заключен в теснейшие прежних пределы. Обе таковые выписки могут быть полезны: первая для обнаружения вводимых странностей; вторая для показания, что вместо нелепых новостей, за которыми мы, читая иностранные книги, гоняемся, можно чрез прилежное чтение книг своих почерпать из оных истинное красноречие, обогатить ум свой знанием силы слога; не ползать по следам иностранных писателей, но, сопровождаясь своими, пролагать себе новый путь, и одним словом, вместо перенимающих слышимые звуки косноязычных попугаев быть сладкогласными на своем языке соловьями.
Последняя из двух вышепомянутых выписок есть один весьма недостаточный опыт. Надлежит, продолжая таким образом, составить полный Словарь и расположить оный но азбучному порядку. Хотя имеем мы академический и церковный словари, в которых многие старинные или ныне мало употребительные слова собраны и истолкованы; однако много осталось еще не истолкованных, а другие требуют пространнейшего истолкования. Итак, не бесполезно будет с помощию двух вышесказанных словарей и прилежного чтения церковных и славенских книг составить вновь такой Словарь, в котором бы всякое слово объяснено было, во-первых, множайшими текстами, показующими во всей обширности круг знаменования оного; во-вторых, должно стараться показать корень оного и присовокупить к тому свои примечания и рассуждения, какие понятия в российском слоге изображать им пристойно; в-третьих, надлежит рассмотреть, не заключает ли оно в себе таких смыслов, для выражения коих прибегаем мы ныне к рабственному с чужих языков переводу слов, в нашем языке совсем новых и, следственно, не имеющих никакого знаменования, ни силы. Я уверен, что тот, кто с большим досугом и с вящшими моих способностями и дарованиями восхощет употребить труд свой на составление такового Словаря, принесет немалую российской словесности пользу, равно как и тот, кто, искусный в языке своем, возьмется истолковать однознаменательные в нем слова.
Впервые опубликовано: СПб., 1803.
Александр Семенович Шишков (1754-1841) - русский писатель, литературовед, филолог, мемуарист, военный и государственный деятель, адмирал (1824). Государственный секретарь и министр народного просвещения, президент литературной Академии Российской.
На главную |
Произведения А.С. Шишкова |
